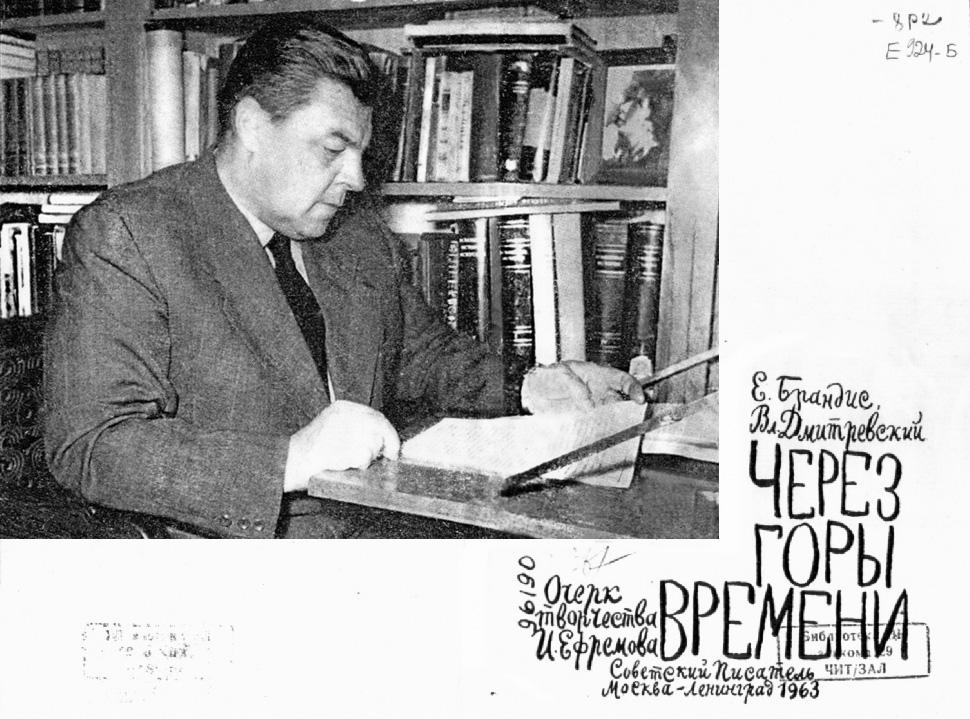
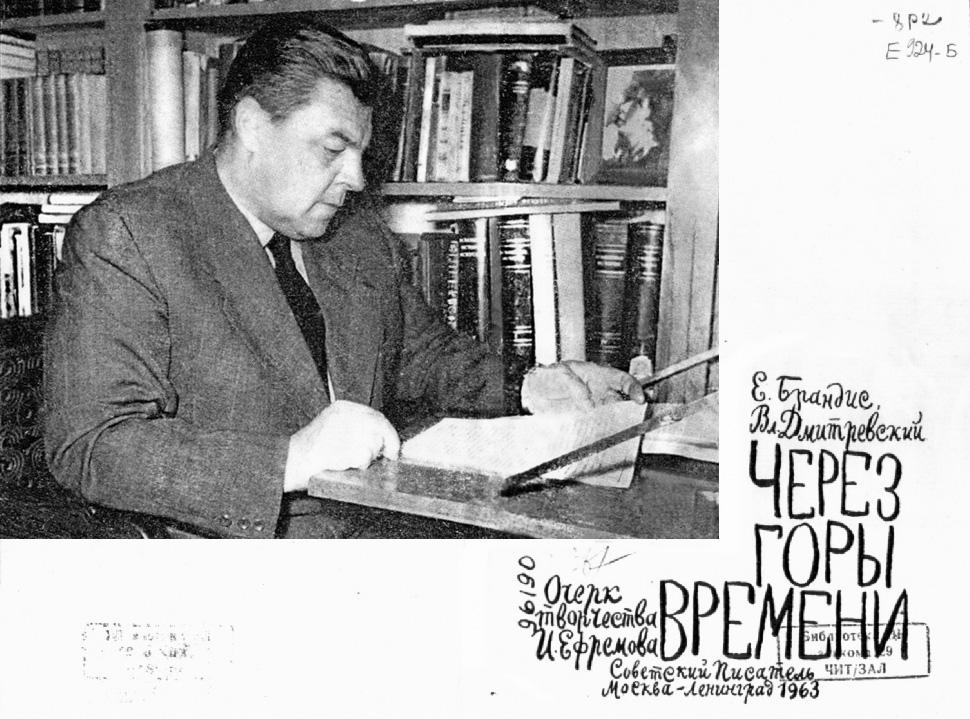
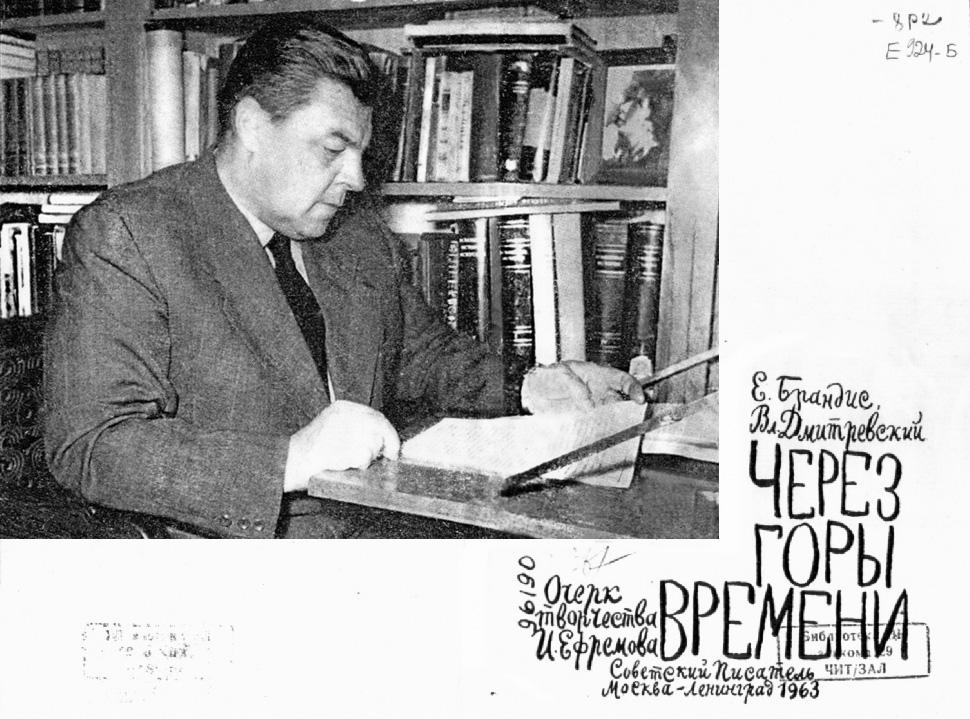
 Глава первая
Глава первая
И.Ефремов в родительском доме. — Гражданская война. — Переезд в Херсон. — Поход к Перекопу с авторотой 6-й армии. — Петроград. — Знакомство с П.П.Сушкиным. — Владивосток. — На борту «Третьего Интернационала». — Командир катера в Каспийском море. — Ленинградский университет. — Первые палеонтологические экспедиции. — Охотник за ископаемыми. — Что такое тафономия? - Новые пути в науке. — Начало литературной деятельности. — Встреча с А. Н. Толстым. — Опубликованные произведения и творческие замыслы Ефремова.
Летом 1956 года на одной из дач академического поселка Мозжинки, что находится неподалеку от Звенигорода, поселился известный палеонтолог, профессор Иван Антонович Ефремов.
Подмосковье, особенно же места вблизи Звенигорода, пленяет своей красотой. В отлогих берегах неторопливо несет свои воды Москва-река, неглубокая, почти золотая от желтого песка, покрывающего плоское ее русло. Зеленым, переходящим в синеву куполом вздымается Звени-гора, и по ее склону старательно карабкаются улочки старого русского городка с фасадами домов, утопающими густой зелени.
В лесах, где медноствольные сосны чередуются с кленами, березками, а около вековых дубов действительно приютилась и пышно разрослась «тонкая рябина», много ягод и подлинное грибное царство. Тихо здесь. Так тихо, что, кажется, можно расслышать, как шелестит на ветру каждая травинка — всякая на свой лад, как позванивают синие, лиловые и розовые колокольчики на лесной опушке.
Именно эта необыкновенная, успокаивающая тишина влекла к себе Ефремова. Покинув свою квартиру на Спасоглинищевском — в самом центре Москвы, где сквозь стекла окон в комнаты прорывался неумолчный грохот города-гиганта, забрав записные книжки, которые он шутливо называет «премудрыми тетрадями», пишущую машинку и побольше чистой бумаги, он прочно «окопался» на даче, превратившись в мозжинского отшельника.
Уже давно воображение Ефремова тревожила мысль о полете человека в космос и возможностях установления дружеского контакта между различными космическими цивилизациями.
Месяцы, проведенные в гобийской пустыне, помогли ему увереннее переступать пороги времени — ведь там он мысленно жил среди странных и страшных животных, исчезнувших с лица земли за миллионы лет до появления предков человека, — и как бы приблизили, сделали доступнее для воображения звездные миры. «Бесконечный черный простор гобийской ночи затоплял койку — маленький островок человеческой жизни в неоглядном океане темного воздуха. А вверху — вся звездная бездна и бесконечность вселенной, становившаяся тут как-то ближе и понятнее». Так писал Ефремов в своей книге «Дорога ветров».
Вглядываясь в россыпь звезд, посверкивающих над пустыней, точно крошечные осколки халцедона, Ефремов отчетливо представлял те незримые нити Разума, протянувшиеся от созвездия к созвездию, где горят оранжевые и желтые звезды, напоминающие наше Солнце...
Ефремов хорошо знал, что должен он написать. Теперь же ему предстояло преодолеть сопротивление чрезвычайно трудного материала и решить, как это будет написано. Но работа плохо спорилась. «Экран внутреннего видения» не зажигался. Образы не оживали. Утомленный и предельно недовольный собою, выходил он на улицу и в сильный бинокль разглядывал звездное небо. Вот оно, мутно светящееся пятнышко в созвездии Андромеды... И воображение, как еще не созданный человеком телескоп с многомиллионнократным приближением, превращало едва различимое пятнышко на черно-фиолетовом небе в линзовидный диск гигантской Галактики.
Мысль писателя-фантаста — подлинная машина времени. Наперекор всем существующим законам она, повинуясь страстному желанию, мгновенно переносит человека в бесконечно далекое прошлое или, шагая через века, устремляется в грядущее.
И вот тихой синей ночью, под куполом звездного неба, в минуты полной отрешенности от всего окружающего, пришло наконец долгожданное «видение» далекого будущего...
Облегченно вздохнув и отняв бинокль от утомленных, затуманенных слезою глаз, Ефремов стремительно зашагал к дому. Образы и представления окружили его со всех сторон. Почти воочию «увидел» он мертвый, покинутый людьми звездолет, эту маленькую земную песчинку, на чужой, далекой планете Тьмы; перед глазами проплыли зловещие силуэты медуз; на миг, как бы выхваченная из мрака, взметнулась крестообразная тень того Нечто, которое чуть было не погубило отважную астролетчицу Низу Крит...
Фантазия, как мотор, получивший достаточно питания, заработала бесперебойно.
Ефремов едва успевал записывать картины, проплывавшие перед его мысленным взором. По восемь-десять часов не отходил от стола. И не только не уставал, а, напротив, испытывал радостное удовлетворение, приток свежих сил.
Так в летние и осенние месяцы 1956 года была написана вчерне «Туманность Андромеды», роман, принесший Ефремову всемирную известность.
Иван Антонович Ефремов родился 22 апреля 1907 года в деревне Вырице, под Петербургом.
Отец его, Антон Харитонович, бывший солдат лейб-гвардии Семеновского полка, выходец из заволжских крестьян-староверов, всю свою чисто артамоновскую энергию, незаурядный ум и богатырскую силищу степняка вложил в решение нелегкой для него, крестьянского сына, задачи — «пробиться в люди». И скоро преуспел в этом, став довольно крупным лесоторговцем, связав свою судьбу и честолюбивые помыслы с лесом. Ефремов-отец любил русский лес стихийно, всей силой своей широкой и непокорной натуры. Лучшим отдыхом и развлечением для себя почитал он охоту на медведя, но только, боже упаси, не с ружьем, а по старинке, с рогатиной и топором, уравнивая таким образом шансы на жизнь и смерть в единоборстве с разъяренным зверем.
Все, что окружало в раннем детстве Ваню Ефремова, было крупным, массивным, могучим: отец, легко разгибавший подковы, медведь, бегавший на цепи по двору, тяжелая мебель мореного дуба в горницах, сосны и ели в три обхвата, подступавшие к самому дому.
В кабинете отца, в громоздких шкафах, хранилось множество книг в сафьяновых и коленкоровых переплетах. Но роскошной библиотекой в доме Ефремовых никто никогда не пользовался. Она была лишь частью обстановки и как бы подтверждала, что семья Ефремовых достигла желанного благополучия.
Единственным человеком, который распахивал тяжелые дверцы шкафов и перебирал книги, стоящие на полках, был Ваня Ефремов. Читать он научился удивительно рано. Когда мальчику исполнилось шесть лет, под руку ему попался роман «Восемьдесят тысяч верст под водой». Это было настоящее откровение. Ваня читал не отрываясь, а потом перечел еще раз и еще — и надолго отдал свое сердце капитану Немо. Несколько позже он раздобыл другой роман Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли» — и заинтересовался минералами. Начал собирать коллекцию камней, испытывая почти физическое удовольствие, держа на ладони какой-нибудь гладко отшлифованный удивительных расцветок голыш...
Не так уж часто случается, когда первое детское увлечение определяет выбор профессии. И маленький Ваня Ефремов, мысленно совершая увлекательное и опасное путешествие к центру Земли, конечно, не подозревал, что геология займет в его жизни такое большое место. Вероятно, он и не знал тогда этого иностранного слова. Просто ему очень нравились камни, тяжелые и разноцветные, нравились даже больше, чем почтовые марки.
Буйное воображение в сочетании с острой памятью еще в детские годы создавало своего рода щит, который прикрывал его от пагубного воздействия мещанской среды. Он жил в своем собственном мире, сотканном из ярких образных представлений, навеянных прочитанными книгами и дополненных неуемной фантазией.
Пройдут годы, пройдут десятилетия, и Ефремов станет палеонтологом и геологом. Не помог ли ему в этом герой Жюля Верна, знаменитый доктор Лиденброк, захвативший с собой маленького мечтателя в фантастическую экспедицию к центру Земли?
Не помогла ли ему в определении жизненного пути и тощая пятикопеечная книжонка, выпущенная издательством Сытина? В ней рассказывалось о каком-то французском мальчугане, проникшем в старую, заброшенную каменоломню и встретившем там чудаковатого ученого в крылатке, похожего на Паганеля, который монтировал гигантский скелет игуанодона.
Да, этот незамысловатый рассказ произвел поистине неизгладимое впечатление! Неистово заработала фантазия. Ваня Ефремов представлял себя охотником, пробирающимся по мрачному, заболоченному лесу с редкими стволами величественных секвой, с зарослями причудливых папоротников и членистыми столбиками хвощей. Там, затаив дыхание, наблюдал он за смертным боем свирепого горгозавра с неуклюжим, закованным в костяную броню стегозавром.
Но осмысленный интерес к палеонтологии, неодолимое стремление перелистывать книгу истории Земли, восстанавливать и разгадывать стертые временем страницы — все это пришло много позднее.
А пока что расширялись горизонты ребяческих мечтаний... Неустрашимый восьмилетний капитан Немо все чаще покидал каюту «Наутилуса», чтобы проникать в необъятный мир далеких путешествий. После того как удалось достать сочинения Свен Гедина и Пржевальского, самой большой радостью Вани Ефремова при поездках в Петроград стал Зоологический музей.
Часами простаивал он перед дикой лошадью и другими животными, добытыми знаменитым русским путешественником, и будто в волшебной дымке видел бескрайние степи Центральной Азии, и пики хребтов Тянь-Шаня и Тибета, и страшную пустыню Такла-Макан, и гладь озера Лобнор. Видел он и самого Николая Михайловича Пржевальского, обожженного азиатским солнцем, конечно вооруженного до зубов, бесстрашного, неутомимого...
Так все больше расширялся во времени и в пространстве мир, окружающий ребенка.
Но вот книгам пришлось потесниться. В довольно устойчивый круг представлений, созданных воображением любознательного и мечтательного мальчугана, ворвалась подлинная жизнь.
Из-за болезни младшего сына Ефремовы переменили место жительства и переехали на юг, в город Бердянск. Здесь и произошло первое знакомство Вани с морем. После уроков он много времени проводил в порту, дружил с рыбаками и мечтал о дальних морских плаваниях.
Антон Харитонович часто уезжал по делам, и дети чувствовали себя гораздо легче без грозного, деспотического отца. Скоро возникли нелады в семье, отец развелся с матерью и ушел из дома. А там начались гигантские социальные потрясения. По всей России забушевал ветер Октября.
Трудно сейчас представить себе, как бы сложилась судьба Ефремова, если бы не великая революция. Ведь обстановка, в которой он провел свои детские годы, вовсе не способствовала свободному и полному развитию его индивидуальности. Специфический быт купеческой семьи, мало чем отличавшийся от душного, коверкающего человеческую душу «темного царства», описанного Островским, мог оказать пагубное влияние на мальчика, отнять у него мечту и направить прирожденные способности в совсем иное русло. Теперь же революция, точно сверкающий меч, одним ударом отделила прошлое от настоящего. От старого мира у Ефремова осталась на всю жизнь неистребимая ненависть к деспотии, к сытому мещанскому благополучию, к ленивому равнодушию и прозябанию. Он был одним из тех, чьи таланты вызвала к жизни революция и послала прокладывать новые пути в науке, литературе, искусстве...
Семья перебралась в Херсон. Веселая, добрая мама вскоре вышла замуж за краскома-буденновца и уехала с ним, оставив детей на попечение родственников. Но тиф скосил и эту последнюю связь с прежним налаженным семейным бытом. Тетку увезли в больницу, дети стали жить самостоятельно, существуя продажей кое-каких вещей, борясь с голодом в пустой и холодной квартире.
Верно и вовсе пропали бы ребята, не установись наконец в Херсоне Советская власть. «Дяди из наробраза» стали снабжать ребят талонами «в столовку». Кулеш, сушеная рыба, кипяток с леденцом... Неплохая еда! А тут, в соседнем доме, как раз разместилась вторая рота авто базы 6-й армии. Ну какой мальчишка не залюбуется сильными фырчащими машинами и не подружится с веселыми хлопцами в потертых кожанках и простреленных шинелях! Очень скоро авторота стала вторым, нет, пожалуй, единственным родным домом Вани Ефремова. Красноармейцы его полюбили, научили разбираться в автомобиле и как своего воспитанника взяли с собой в далеко не безопасный переход к Перекопу, где завершался разгром «черного барона» — Врангеля. Но до этого мальчику довелось совершить еще одно увлекательное путешествие.
В херсонской городской библиотеке, которую Ваня посещал каждодневно, попались ему на глаза сочинения Райдера Хаггарда. «Наплевав на все окружающее», с диким увлечением стал он проглатывать, один за другим, странные, тревожащие воображение романы.
И вот тогда-то в осажденный белыми, затаившийся Херсон к мальчику пришел немолодой сухонький человек-охотник Аллан Кватермен. И повел он его по неведомым тропам Черного континента, навсегда заронив в душу неиссякаемый интерес к далекой Африке.
— Открыв Хаггарда, — рассказывал Ефремов, — я уже не мог расстаться с ним ни на минуту. Во время довольно жестокого обстрела со стороны Днепра, с Голой пристани, где закрепились белые, я, забравшись на железную пожарную лестницу и полагая, что угол дома является надежнейшим прикрытием от снарядов, с упоением читал «Копи царя Соломона» и «Люди Тумана», пока меня не контузило шальным снарядом…[1]
Но помимо литературных героев в жизнь Ефремова вступали люди во плоти и крови, люди, оказавшие огромное влияние на формирование его характера и интересов.
После демобилизации в 1921 году, побывав в Херсоне и узнав, что отец
разыскал и забрал к себе младших детей, Ефремов решил отправиться в Петроград.
Не по летам повзрослевший подросток в солдатской шинели и с тощим заплечным
мешком много дней провел в «телячьем» вагоне в обществе разговорчивых, веселых людей, возвращавшихся к мирной жизни.
И вот — Петроград, огромный, прекрасный, тогда малолюдный город. Широкие проспекты, красивые дома, полноводная река, узорчатые решетки набережных, тихие линии Васильевского острова, заросшие травой, — вся суровая красота многострадального города накрепко вошла в сердце Ефремова.
Работая то подручным шофера, то
пильщиком дров, то чернорабочим, он одновременно стал учиться в 6-й единой
трудовой школе, в здании бывшего Петровского коммерческого училища на Фонтанке,
62.
Нужно было догонять сверстников. Тут уж старый африканский охотник Аллан Кватермен ничем не мог помочь Ефремову. Не с дикими слонами и не с густогривыми львами пришлось ему схватиться, а с синтаксисом, алгеброй и немецким языком. Здорового, широкоплечего парня в поношенной, плохой одежде поддразнивали товарищи по школе. Из-за обильных и неумелых заплат на одежде называли его «царем Иваном Пестрым».
Счастливый случай привел Ефремова в
эту школу, где работали тогда талантливые, пытливые, влюбленные в свое дело
педагоги. Среди них выделялись преподаватели природоведения Виктор Михайлович
Усков, известный популяризатор науки, автор многих учебников, и Давид
Николаевич Чубинов (Чубиношвили), могучий, веселый грузин, организовавший при
школе замечательный уголок живой природы — зоологический сад в миниатюре.
Физику блестяще преподавал Виктор
Феликсович Трояновский, а курс истории вел молодой ученый Александр Игнатьевич
Андреев, впоследствии член-корреспондент Академии наук, большой знаток истории
Сибири и Петровской эпохи.
В тот период еще не существовало стабильных программ, вводились и отменялись новые методы обучения, в постановке школьного образования было много неурядиц. Но прекрасный подбор педагогов, а также превосходно оборудованные учебные кабинеты и лаборатории, сохранившиеся от гимназии с «практическим уклоном», способствовали тому, что ученики 6-й трудовой школы получали не только основательную подготовку, но и навыки самостоятельной работы.
С особой благодарностью Ефремов
вспоминает учителя математики Василия Александровича Давыдова, который, обратив
внимание на способного парня, решительно вмешался в его судьбу. Именно Давыдову
— старому школьному учителю и удивительно теплому, отзывчивому человеку —
Ефремов обязан был молниеносным окончанием школы второй ступени. Учение
напоминало барьерный бег. Не сбив ни одного барьера, он уже через два года
получил свидетельство о среднем образовании.
К тому времени интересы юноши как бы
раздвоились. С одинаковой силой влекли его мужественная профессия моряка — в
душе продолжал жить вожак детских мечтаний капитан Немо, грызла тоска по
покинутому южному морю, — и поиск таинственных костяков, что скрыты в недрах
земли.
Еще будучи в школе, Ефремов написал
робкое письмо профессору Горного института Яковлеву с просьбой принять,
выслушать и помочь советом. Профессор не отказал, внимательно выслушал и
написал записку в библиотеку при Геологическом комитете, чтобы «Ефремову И. А.
выдавали требуемые им книги». Но толстые тома на меловой бумаге, многие — на
иностранных языках, оказались непохожими на ту сытинскую книжонку об игуанодоне
и ученом в крылатке, как непохожа была реальная жизнь на детские мечты.
Штурм палеонтологических твердынь
никак не удавался! Ученые труды казались скучными, а главное, почти непонятными.
Не помог и автор университетского «Курса палеонтологии» Алексей Алексеевич
Борисяк. Ефремов нашел эту книгу, изданную еще в 1905 году, на прилавке
букиниста, заплатил довольно большие деньги и, ликуя, примчался в свою комнату,
чтобы немедленно приняться за чтение. Прочел от корки до корки, но ничего
интересного для себя не вычитал. Тут же решил обратиться к автору учебника,
обстоятельно расспросить его. Борисяка он нашел по справочнику «Наука и научные
работники» в здании Горного института на 21-й линии.
Огромная профессорская квартира. Не кабинет, а целый зал! Из-за
необъятного стола поднялся и пошел навстречу Ефремову среднего роста хрупкий и
неестественно прямой человек в очках с толстыми стеклами. Был Борисяк близорук,
бледен и сед, а деревянная прямота его корпуса, как позже узнал Ефремов,
объяснялась тем, что профессор носил специальный корсет из-за болезни позвоночника. Неожиданно сильный, почти трубный голос
как-то не вязался с типичной внешностью кабинетного ученого. Вежливо
расспрашивая юного посетителя, Алексей Алексеевич присматривался к нему,
поднимая на лоб очки. Правда, Борисяк был очень внимателен и даже обещал
привезти из Германии «Справочник по палеонтологии» Циттеля, но заронить
«священный огонь» в душу Ефремова не смог. Все, что тогда говорил профессор,
казалось академичным и холодным. От его слов минералы не начинали тепло
светиться и не оживали темные кости доисторических ящеров.
Однако первые разочарования не
сломили упорства Ефремова. Он верил, что ключ, которым можно отомкнуть пока
неприступную для него дверь в полюбившуюся науку, существует, и он, Иван
Ефремов, обязательно завладеет этим ключом.
Однажды, сидя в читальне, он
перелистывал журнал «Природа» за 1922 год. Внимание привлекла статья П. П.
Сушкина о северодвинской пермской фауне. В сравнительно небольшой статье он дал
ясное представление и о самом процессе, и о конечном результате
палеонтологической работы. Ефремов почувствовал, что Сушкин как раз тот
человек, который ему нужен. Широко и сильно нарисовал ученый картину жизни
безмерно далекого прошлого Земли, показав в то же время, как эта картина
создается из изучения ископаемых костей, и тем самым осветил самый смысл
раскопок.
«Могучая мысль ученого, —
впоследствии писал Ефремов, — восстанавливала большую реку, переставшую течь
170 миллионов лет тому назад, оживляла целый мир странных животных, обитавших
на ее берегах, раскрывала перед читателем необъятную перспективу времени и
огромное количество нерешенных вопросов — интереснейших загадок науки».
Совершенно потрясенный, он написал
автору письмо, умоляя принять его и выслушать.
Сушкин не замедлил с ответом:
«Приходите, но не на квартиру, а в Геологический музей. Мы побеседуем, а
кстати, вы кое-что увидите...»
Музей размещался в здании бывшей
Петровской таможни. Ефремов примчался туда как на крыльях. Встретил его
невысокий, сильно прихрамывающий человек с огромным залысым лбом, короткой
седой бородкой и острыми, насмешливыми глазами. Это и был директор
«Северодвинской галереи», знаменитый зоолог и палеонтолог Петр Петрович Сушкин.
Говорили, что у ученого крутой, деспотический нрав. Но вот он крепко пожал руку
незнакомому юноше, окинул его внимательным взглядом и произнес очень странным,
каким-то переливчатым голосом, соскальзывающим от фальцета к басовитым тонам:
— Итак, Иван Антонович, вы намерены
посвятить себя палеонтологии?
Никто еще никогда не называл его по
имени и отчеству. Ефремов несколько смутился, но, посмотрев на ученого, на его
крупный «картошкой» нос и глаза с доброй смешинкой, сразу успокоился.
Беседа продолжалась долго. Сушкин не
вел счет минутам, не посматривал на свои старинные серебряные часы. Он слушал, одобрительно покачивал
головой, изредка задавал наводящие вопросы. Потом повел Ефремова по всем залам
не открытого еще музея, показал «святое святых» — препараторскую и разрешил
приходить к нему заниматься в любое время.
И произошло чудо, о котором
перешептывались между собой сотрудники музея. В кабинет «самого» Петра
Петровича был поставлен стол для какого-то мальчишки Ефремова, и этот юнец
приходил когда вздумается, садился за «свой» стол, читал книги, отобранные для
него профессором,[2] жадно
наблюдал, как тот ювелирно препарирует кости, и разговаривал с ним запросто,
как равный с равным.
Ефремов восхищался Сушкиным. Зная о
его путешествиях по Монголии, видел в нем первооткрывателя, словно сошедшего со
страниц любимых книг. Поражали необычайно ясный ум ученого, его умение ярко,
образно и в то же время совсем просто рассказывать и писать о самых сложных
вещах, энциклопедические знания и та щедрость, с которой он делился своими
идеями и научным опытом с молодежью.
А Сушкин, быстро оценив восприимчивость и живой ум Ефремова, приблизил к себе зеленого юнца, прекрасно понимая, что наука пока интересовала его как поиск, со стороны романтической. Юношу увлекали путешествия, неведомые звери, открытия и сопряженные с ними опасности. Африка оставалась для Ефремова столь же загадочной и неизведанной, какой описывали ее Ливингстон и Стэнли, Китай виделся глазами Пржевальского, и было еще трудно переступить через эти привычные представления. Петр Петрович Сушкин помогал своему ученику поскорее одолеть первую ступень вхождения в науку, исподволь приобщая его к новейшим гипотезам и раскрывая богатства уже накопленных материалов, фактов и выводов.
Казалось бы, рубикон перейден, заветный ключ уже в кармане и древнейшие позвоночные — представители верхней палеозойской фауны — нетерпеливо ждут молодого исследователя. Но вмешалась самая что ни на есть проза жизни — отсутствие лишнего пайка, а следовательно, и свободной вакансии в музее. Тут и Сушкин ничего не мог поделать — ведь не маг же он, в самом деле, а всего лишь профессор!
— Придется вам потерпеть, Иван Антонович, да и университет небесполезно окончить, — утешал Ефремова Сушкин.
Как же быть? Попытаться устроиться на постоянную работу шофером? Нет, в резерве у Ефремова было нечто иное, куда более заманчивое. В клеенчатом бумажнике хранился бесценный документ, удостоверявший, что «предъявитель сего, Ефремов Иван Антонович, действительно сдал экзамены за мореходные классы на весьма удовлетворительно и получил звание штурмана-судоводителя каботажных и речных судов».
С морскими классами Ефремов «расправился» между делом и очень легко. Прочитал несколько учебников и специальных книг и пошел сдавать экзамены... Беда была лишь в том, что в Петрограде судов, годных для вождения, было в ту пору мало, да и для того, чтобы получить судно, следовало проплавать пять лет матросом, набирая стаж.
Тогда, по совету старых морских волков, панибратством с которыми он чрезвычайно гордился, Ефремов решил поехать во Владивосток.
Экзотика, словно сошедшая со страниц Джозефа Конрада и Клода Фаррера, со
всех сторон обступила юношу. Чего стоило одно название бухты — Золотой Рог!
Тесные улочки китайского квартала. Тайные опиекурильни. Японские чайные домики.
Экспортированные во Владивосток не первой
молодости гейши. Стройные индусы в синих чалмах с гофрированными бородами и
выразительными печальными глазами... Леденящие душу ночные вопли в районе порта
и хриплая ругань чуть ли не на всех языках мира. Невообразимое, свирепое
пьянство. Не очень все это пришлось по душе шестнадцатилетнему романтику —
штурману каботажных судов.
Но было и настоящее — Великий, или Тихий, океан... Никакого корабля для вождения Ефремову, конечно, не доверили. Пришлось поступить старшим матросом на кавасаки — парусно-моторное судно — с гордым названием «Третий Интернационал». Принадлежало оно Камчатскому акционерному обществу и предназначалось для снабжения солью рыбацких промыслов и транспортировки рыбы.
Да, то был совсем не трехмачтовый фрегат с сорока двумя медными пушками и даже не современный, как лебедь белый, океанский лайнер... Грязное, тесное, провонявшее рыбьим жиром суденышко. Но шло оно по бескрайним океанским дорогам, по следу, проложенному «Буссолью» и «Астролябией» Жана Франсуа Лаперуза, — шло, имея по одному борту остров Сахалин, а по другому японский Хоккайдо, к берегам Охотского моря, в далекий порт Аян.
Матрос Ефремов, стоя на вахте, видел закаты, когда солнечный диск, огромный, как колесо, ныряет в темно-багровую волну. Он, конечно, мечтал увидеть и зеленый луч, и чудовищную морскую змею, резвящуюся на зорях, и легендарного «Летучего голландца», и прочие чудеса, созданные пылким воображением многих поколений моряков. Но лучи утопающего солнца, как всегда, были красны, а вместо морского змея кавасаки сопровождали хмурые серые волны.

И.Ефремов на морской службе. 1925
Чем больше рейсов совершал Ефремов на
«Третьем Интернационале», чем зорче становились его глаза, крепче и умелее
руки, чем глубже постигал он подлинную романтику моря, тем настойчивее звучал
внутренний голос: не слишком ли узка тропа, по которой он входит в жизнь? Не
слышался ли ему в те минуты модулирующий голос Петра Петровича Сушкина, молвившего однажды: «Да и университет
вам небесполезно окончить».
И Ефремов твердо решил: зимой будет учиться, а плавать — летом. Взял расчет и, возмужавший, с повадками эдакого «штурмана четырех ветров», осенью 1924 года вернулся в Ленинград и, как говорится, прямо с корабля на бал... С запиской Сушкина явился к ректору университета Николаю Севастьяновичу Державину и был зачислен вольнослушателем. А еще через год стал настоящим студентом.
И тут надо отметить одно немаловажное
обстоятельство. Время пребывания Ефремова в старших классах школы и особенно в
университете совпало с пробуждением горячего интереса молодежи к новому
научному мировоззрению, пропагандировавшемуся большевистской партией. В эту
пору часто устраивались вольные диспуты, на которых молодые «диалектики»
допоздна обсуждали вопросы марксистской философии, а также, по контрасту,
старались постичь и опровергнуть идеалистические системы Гегеля и Канта.
Ефремов всегда был непременным и
активным участником философских кружков и семинаров. Уже в те годы он с
увлечением читал и конспектировал «Анти-Дюринг» и «Материализм и
эмпириокритицизм», а «Происхождение семьи, частной собственности и государства»
Энгельса воспринимал как непосредственное продолжение трудов Дарвина
«Происхождение видов» и «Происхождение человека».
Правда, философские дискуссии,
которые велись молодежью, во многом были наивны и схоластичны, а в
теоретических трудах классиков марксизма далеко не все было понятно. Но именно
тогда начал вырабатываться у будущего ученого диалектико-материалистический
подход к явлениям природы и жизни общества.
И в дальнейшем Ефремов не раз
возвращался к кардинальным философским трудам, особенно к «Диалектике природы»,
которые помогали ему в решении проблем, непосредственно связанных с его научной
специальностью.
...Итак, зимой старинное здание
Двенадцати коллегий на набережной Невы, лекции любимых и нелюбимых профессоров,
предельно укороченные ночи, груды книг, которые нужно одолеть. А летом — море.
На этот раз Каспийское.
Ефремов — командир катера,
обслуживающего Ленкоранскую лоцманскую дистанцию. Дело как будто и немудреное —
надо восстанавливать и ремонтировать буи и береговые знаки на дистанции, но
времени и сил отнимает много. Так и лежит в каюте туго перетянутая шпагатом
связка книг, которые Ефремов собирался прочесть за летние месяцы. Но,
намотавшись за день на своем катере, он, забираясь в каюту, мог думать только о
койке — и мгновенно засыпал.
Как быть? Может, и в самом деле прав
был начальник морского техникума, старый парусный капитан Дмитрий Афанасьевич
Лухманов, к которому Ефремов ходил за советом? Там, в тихом доме, на одной из
линий Васильевского острова, Лухманов, автор морских рассказов, человек,
отдавший всю жизнь морю и парусам, внимательно выслушал Ефремова и, задумчиво
побрякивая чайной ложечкой о стакан, изрек:
— Значит, море и наука... Тянет в
разные стороны? ...Так, так... А я вот что вам скажу, юноша. Плавать, быть
хорошими моряками смогут многие, а вот корпеть над камнями и костями — таким
надо родиться. Мой вам совет, дорогой, подавайтесь в науку.
Но ведь надо зарабатывать на жизнь, а
устроиться на работу в Ленинграде, пусть даже шофером, чертовски трудно.
Потому-то и оказался Ефремов на Каспии.
И вдруг телеграмма от Сушкина:
«Предлагаю место препаратора». Вот оно — свершение мечты! Бородатый суровый
академик предстал в образе всемогущей доброй феи. Юный командир старого катера
едва не сокрушил свой «корабль», оттопав дикую джигу, и тут же телеграфировал
согласие.
Прощай Каспий, прощай древнее
Гирканское море! Приятно, конечно, в восемнадцать лет быть «капитаном» катера,
но куда важнее и почетнее называться научно-техническим сотрудником Академии
наук и работать под непосредственным руководством самого Петра Петровича!
Однако расставание с морем было нелегким. Детские мечты, подкрепленные первым непосредственным впечатлением, когда мальчик впервые увидел Азовское море, и позже, когда юноше пришлось проходить практическую школу моряка на Тихом океане и на Каспии, оставили глубокий след в душе Ефремова. На всю жизнь полюбил он беспредельные водные просторы, могучую, все еще не покоренную стихию, требующую от каждого, кто соприкасается с ней, не только мужества и упорства, но и особой душевной чистоты.
Став через несколько лет геологом,
Ефремов никогда не забывал навыки, полученные им за время морской службы. Ведь
путешественник, как и моряк, должен всецело полагаться на себя. Горстка людей в
далекой экспедиции — тот же экипаж корабля, встретившийся один на один со все
еще таинственной и грозной природой. В таежной глуши или в жарких песках
пустыни надо быть решительным, находчивым и смекалистым, как и в разбушевавшемся
океане! Сноровка моряка стала, таким образом, и сноровкой
геолога-путешественника.
Каждая встреча экспедиции с рекой была для Ефремова праздником. Из темной душной тайги, где стеной поднимаются толстые стволы деревьев, где все неподвижно — даже ветер не может пробиться в чащу и поколебать верхушки кустарника, — выходил Ефремов к берегам широких сибирских рек и наслаждался быстротой движения, блеском солнца на водной глади, сознанием, что реки эти стремятся к его любимому морю...
Но все это в будущем. Пока же — Ленинград и
встреча с Сушкиным. Вот они и опять вместе: широкогрудый, загорелый юноша в
матросской тельняшке и старый ученый. На этот раз стол для Ефремова не ставится
в кабинете академика — у препаратора есть свое рабочее место, — но близость
учителя и ученика крепнет с каждым днем.
Оба они люди одной породы. Жизненный девиз того и
другого — поиск.
Итак, мечта Ефремова исполнилась. Все
дальнейшее теперь будет зависеть от него самого — от его способностей, старания
и упорства. Палеонтология приучит его мыслить гигантскими временными
категориями и вместе с тем разовьет воображение, остроту восприятия, утонченную
наблюдательность.
Но прежде чем рассказать о пути
ученого, позволим себе небольшое отступление о его романтической науке — палеонтологии,
которая, наряду с геологией и астрономией, открывает «необъятные перспективы
времени и пространства, исторического развития нашего мира в прошлом, а
следовательно, и его возможного будущего».[3]
Палеонтология находится как бы на
границе двух смежных наук, пользующихся разными методами исследования. Одна из
них — геология — имеет дело с неживой материей, а другая — биология —
занимается органической жизнью.
«Палеонтология немыслима иначе, как
среди биологических наук, являясь по существу отраслью ботаники или зоологии,
изучающих флору и фауну прошлого. С другой стороны, без исторической геологии,
изучающей всю великую последовательность напластований земной коры,
палеонтология не может претендовать на существование. Это — наука пограничная
между двумя крупными разделами естествознания».[4]
В силу своего пограничного положения она испытывает взаимодействие разных подходов и качественного различия самих объектов исследования. Вот где открывается простор для философских раздумий! Различие подходов к живому и неживому материалу, совмещение разных точек зрения словно обнажает диалектику природы. Палеонтолог идет от анализа к синтезу, восстанавливает целое по обрывочным, далеко отстоящим друг от друга сведениям. Поскольку в сферу исследования входит и мертвая каменная материя, и органическая жизнь, палеонтолог должен обладать широким научным кругозором, свободно ориентироваться в нескольких областях знания.
Самое трудное для палеонтологии, охватывающей громадные периоды времени, познать каждое явление в эволюции, движении, во взаимодействии противоположных и взаимоисключающих факторов.
Долгое время палеонтология была
«иконографической», описательной наукой и заметно отставала от смежных областей
знания. Мешали ей достигнуть необходимых результатов и ошибочные методы
исследования: биологическая эволюция часто изучалась в отрыве от геологических
процессов, и наоборот. Благодаря этому палеонтологи либо теряли историческую
перспективу и рассматривали каждый организм как «вещь в себе», либо
превращались в регистраторов событий и не могли понять причин изменения видов.
Ценнейшим материалом для научных исследований
послужило знаменитое местонахождение пресмыкающихся и земноводных пермского
периода — на реке Северная Двина у города Котласа, открытое в конце XIX века В.
П. Амалицким.[5] Тем самым
было доказано, что континентальные отложения нашей родины хранят в своих недрах
неисчерпаемые научные сокровища. В последующие годы В. П. Амалицкий занимался
обработкой палеонтологических документов — готовил их для экспозиции, тщательно классифицировал, систематизировал,
описывал. А позднее, когда его уже не было в живых, академик П. П. Сушкин
приступил к более глубокому изучению северодвинской фауны.
Большое место в его работах занимает
функциональный анализ строения ископаемых животных, практически забытый после
В. О. Ковалевского. Вслед за первым русским палеонтологом-дарвинистом П. П.
Сушкин объяснял причинность строения древнейших четвероногих в связи с
условиями окружающей среды.
Этот метод, открывавший широкий простор для работы воображения, увлек будущего палеонтолога. Быть может, придет день, когда и ему удастся проникнуть мысленным взором сквозь толщу времени и коснуться неведомого?! Пока же юный препаратор учится обращению с превратившимися в серый камень костями вымерших чудовищ. А Сушкин незаметно присматривается к своему ученику. Не ошибся ли он в выборе? Можно ли надеяться, что этот молодой моряк в конце концов примет из его рук эстафету и будет представлять в отечественной науке ту новую школу, которую он, Сушкин, противопоставил традиционной и бескрылой описательной палеонтологии?
Петр Петрович сразу же направляет
Ефремова в экспедицию, чтобы раз и навсегда решить для себя, выйдет ли из
молодого человека настоящий «охотник за ископаемыми».
Ведь кроме особого «нюха» такой
охотник должен обладать неутомимостью, долготерпением и страстным желанием
найти. Приходится тщательно обследовать громадные территории, чтобы отыскать
новые пласты отложений и обнаружить в них кости вымерших животных. Значит, надо
ежедневно исхаживать десятки километров, карабкаться по отвесным обрывам,
срываться, падать, набивать шишки и синяки, заползать в сумрачные пещеры,
коротать ночные часы возле костра и, дрожа от холода, с зарей опять
отправляться «на охоту». Так проходят дни, недели, месяцы, и наступает предел
утомления, и кажется, что не сможешь больше сделать ни шагу, но лишь только
зарозовеет небо, затаптываешь угли костра и, сгибаясь под тяжестью рюкзака,
вновь меряешь километры...
А когда наконец кости обнаружены, с
величайшими предосторожностями извлечены на поверхность вместе с глыбами
окаменевшей породы, обшиты досками и доставлены на место, охотник за
ископаемыми становится ювелиром. Ему предстоит освободить хрупкие кости от
породы, с которой они как бы срослись в сплошной монолит.
Способен ли на такой подвижнический
труд Ефремов? Сушкин знает его пытливый ум, взлеты воображения... Он силен, как
молодой буйвол. Неутомимые ноги, руки, в которых гнутся подковы. Не грудь, а
кузнечные мехи. .. Но хватит ли у него терпения и выдержки? И не покажется ли
ему палеонтология слишком узким коридором? Уж очень жаден юноша к жизни. Хочет
все увидеть, все понять, все перечувствовать. Вот недавно, получив отпуск,
помчался на Кубань и работал там трактористом в сельскохозяйственной коммуне
«Звезда красноармейца». Как вам это нравится — палеонтолог за трактором!
Вернулся в Ленинград — на ладонях окаменевшие мозоли и весь пропах машинным
маслом и железом. «Что это вас, батенька, понесло на Кубань?» — «Очень
интересно, Петр Петрович. Там начинается новое, настоящее дело: впервые у нас
машины заменяют тяжелый крестьянский труд. Ведь это будет большое человеческое
счастье». — «Гм... гм... Поезжайте-ка, милый Иван Антонович, в экспедицию. На
Север. Может, повезет, так тоже новое сыщете для науки...»
И точно в воду глядел насмешливый старик. Именно Ефремову (в 1927 году) удалось впервые на севере России найти остатки древнейших земноводных небывалой еще сохранности. То был подлинный научный клад, упрятанный в земные недра без малого 200 миллионов лет назад.
Сушкин довольно потирал руки. Нет,
он, кажется, не ошибся. Из молодого, пытливого препаратора, бог даст, вырастет
настоящий ученый. И Петр Петрович занялся воспитанием Ефремова на свой, особый
лад. Каждую субботу вызывал к себе в кабинет и устраивал «разнос». На длинном
лоскуте бумаги записаны были все «грехи», совершенные Ефремовым за неделю.
«Нагрубил», «совершенно невежливо отвечал по телефону», «проявил
непростительную забывчивость».
Сотрудники музея посмеивались: опять
старик исповедует беднягу Ефремова. Иногда уныние охватывало и самого Ивана
Антоновича, — ну можно ли придираться к таким пустякам! Позже он понял, что
щедрый, великодушный ученый старался вложить в него все необходимые качества,
которыми владел сам и без которых нельзя было стать настоящим научным
работником.
А Петр Петрович, проводив взглядом
обескураженного препаратора, усмехался, рвал на мелкие кусочки «список
преступлений» и думал о том, что Ефремову надо предоставить побольше свободы,
пусть ищет, борется с трудностями, рискует, принимает самостоятельные
решения...
В 1928 году Ефремов впервые был
назначен начальником экспедиции в Вологодскую, Архангельскую, Кировскую области
и автономную область Коми. И экспедиция, возглавленная молодым палеонтологом,
оказывается очень успешной. Начинается слава Ефремова как необыкновенно
удачливого охотника за ископаемыми.
Да, признаться, ему здорово везло!
Впрочем, он никогда и не сомневался в удаче. Если палеонтолог отправится на
поиски с мыслью, что все равно он в этом месте ничего не добудет, то, как пить дать,
вернется с пустыми руками. А Ефремов всякий раз отправлялся в экспедицию с
огромнейшим желанием найти что-то новое, искал не щадя сил — и всегда находил.
Участие в экспедициях, следовавших
одна за другой, помогло Ефремову изучить на практике географию и этнографию
родной страны. В Южном Приуралье он искал остатки древнейших позвоночных —
представителей пермской фауны, а в пустынях Средней Азии, в степях Казахстана и
предгорьях Киргизии «охотился» на крупную дичь — динозавров.
Ученик и последователь Сушкина, он
внес значительный вклад в изучение ископаемых амфибий и рептилий, опубликовал
несколько крупных монографий по лабиринтодонтам, зверообразным и другим
рептилиям, выпустил большие сводки по местонахождениям ископаемых остатков
древних ящеров.[6] Каждая новая
экспедиция и следовавшие за ней печатные работы укрепляли его авторитет как
ученого. Но никогда и нигде не ограничивал он свои интересы чисто служебной
задачей.
Для Ефремова любая экспедиция была
широким поиском: он наблюдал, запоминал и анализировал жизненные явления,
события и характеры людей. Страницы его записных книжек заполнялись заметками.
Это были точные, сухие описания ископаемых, топографических условий залегания
пластов, осадочных пород и окружающего ландшафта. Но в памяти накрепко оседали,
пусть не записанные, пейзажи пройденных мест, народные легенды, невольно
подслушанные разговоры, местные речения. Особенно интересовали Ефремова
загадочные явления природы. Почему же так запомнилось многое, не имевшее
никакого отношения к палеонтологии?
Наверное, и сам Ефремов не смог бы
тогда ответить на этот вопрос. Он любил жизнь во всем ее многообразии. И чем
больше видел и познавал, тем нестерпимее становилось желание еще больше
расширить видение мира.
Ефремов обладал удивительной
зрительной памятью. Он мог восстановить в памяти все дороги и тропы, все скалы
и обрывы, расположение деревьев на опушке леса, всю окружающую обстановку на
каждом участке пути любой из своих экспедиций.
Достаточно было закрыть глаза, и он
вновь видел закат в якутской тайге, и багровый шар солнца, проваливающийся в
бездну пропасти Памира, и огненно-рыжие пески Каракумов в последние секунды
вечерней зари... Память была лучшей записной книжкой Ефремова, всеобъемлющим
дневником его бесконечных скитаний по родной стране.
Первая пятилетка открыла эру
дерзновенного наступления советского народа на природу. Начался бой за новую
экономику, и Ефремов не захотел отсиживаться «в глубоком тылу». Не изменяя
ископаемым животным, он шагнул из верхнего палеозоя в современность.
С 1929 года он начинает принимать
участие в геологических исследованиях, которым посвящает большую часть года. И
чтобы чувствовать себя во всеоружии и в новой профессии, поступает экстерном на
геологический факультет Горного института. Через три года молодой палеонтолог
получает диплом горного инженера.
То был подлинно романтический период
советской геологии. Ведь на географической карте нашей страны оставалось еще
много «белых пятен»!
Геолог-исследователь, подобно
мужественным путешественникам прошлых веков, должен был соединять в себе самые
разносторонние знания и навыки. Помимо выполнения главной задачи — разведки
месторождений полезных ископаемых, он должен был сам производить
топографическую съемку, собирать сведения по климатологии, ботанике, зоологии.
Направляясь в экспедицию, без радио, без механического транспорта, он должен
был полагаться только на самого себя, на ловкость, отвагу и находчивость своих
помощников. Вьючный караван из лошадей или оленей, сплавные суда, а то и просто
крепко сколоченные плоты несли на себе многомесячный запас продовольствия и
снаряжения для долгого и тяжелого похода.
Подготовка экспедиции и управление
таким караваном было многотрудным и очень хлопотливым делом. Геологические
отряды тех лет месяцами шли по глухой тайге, не боясь никаких препятствий и
стихийных бедствий, проникая в такие места, куда современные геологи добираются
только на вертолетах. Конечно, это требовало исключительного здоровья и хорошей
физической закалки.
Размах геологических исследований и
пафос строительства, охвативший всю страну, увлекают молодого ученого. Где
только он не побывал в эти годы! Сначала на Урале — в тех самых местах, где
представлены его любимые пермские отложения, потом в почти неизведанных
областях северного Сихотэ-Алиня и Амуро-Амгуньского междуречья, в центральных
областях горной Якутии и Восточной Сибири, в том числе в труднодоступной
Верхне-Чарской котловине.
Искать приходилось все: нефть, уголь, золото, рудные месторождения. Попутно создавалась географическая карта этих мест и велись топографические съемки, кстати сказать использованные впоследствии при подготовке Большого советского атласа мира.
Практический опыт разведчика земных недр, сложные
геологические процессы и закономерности, постигнутые Ефремовым, открыли перед
ним новые горизонты.
А зимой он продолжал работать над древнейшими пермскими ископаемыми, храня в сердце память о замечательном русском ученом Петре Петровиче Сушкине, умершем в 1928 году, в расцвете творческих сил.
Но это вовсе не означало, что самое
прогрессивное направление в палеонтологии, так называемое палеобиологическое,
блестящим представителем которого был академик Сушкин, казалось молодому
ученому последним словом науки. Нет, так же как В. О. Ковалевский и П. П.
Сушкин восстали в свое время против «иконографической» палеонтологии, так и
Ефремов готовился к смелому рывку вперед.
Он сформировался как убежденный
материалист и последовательный диалектик. Но как же, однако, творчески
применить законы диалектики к палеонтологии?
В результате многочисленных
экспедиций скопился огромный практический опыт, множество фактов, масса
интересных наблюдений. И, размышляя о всем виденном, Ефремов задавал себе
вопрос, на чем покоится сумма наших знаний об истории Земли — огромной толще
наслоений различных горных пород, образовавшихся в морях, озерах, реках
далекого геологического прошлого.
Конечно, нельзя думать, что все эти напластования покрывают нашу планету равномерным чередованием отдельных слоев, наподобие блинчатого пирога. Нет, наслоения похожи скорее на отдельные пачки листов, разбросанных там и сям по поверхности планеты, или, может быть, на сильно изношенное дырявое покрывало.
Изучая содержимое этих напластований —
заключенные в них окаменелости, скопления полезных ископаемых или прослои
внедрившихся вулканических пород, — мы можем установить всю последовательность
истории Земли от наиболее древних периодов ее существования и до последних
тысячелетий. Геологическая летопись ведет свое начало с того времени, когда на
поверхность нашей планеты из разогретой газовой оболочки выпали воды мирового
океана. А это произошло приблизительно полтора миллиарда лет тому назад.
Ученых всегда занимал процесс образования горных пород, иначе говоря, история создания геологической летописи, но при этом они упускали из виду диалектический характер явлений, тем более длительных процессов, которые познаются в единстве противоположностей и взаимоисключающих сил. Ученые не учитывали того, что накопление пород в каком-то одном месте неизбежно связано с разрушением пород в другом. Поэтому из поля зрения исследователей в основном выпал весь — не менее значительный — процесс разрушения горных пород, который также должен иметь свои закономерности.
Лишь наиболее гениальным умам
оказывалось под силу преодолеть традиционные представления о формировании геологической
летописи. Так, например, Дарвин. изучая скопления костей ископаемых
млекопитающих в Южной Америке, впервые, в очень лаконичной форме, заметил, что
«нахождение переходных форм было бы труднее на поднимающихся участках суши». Он
хотел этим сказать, что на поднимающихся участках земной коры должен был
происходить размыв отложений, а не накопление их, а значит, и уничтожение тех органических остатков, которые
могли быть заключены в этих отложениях. Но, при всей своей гениальности, Дарвин
был лишь стихийным диалектиком и не мог создать стройной системы представлений
об обратной — отрицательной — стороне формирования геологической летописи.
Характерно, что после Дарвина никто
из иностранных палеонтологов не возвращался к этим вопросам. Впервые за них
взялись советские ученые. Профессору М.М. Тетяеву, автору монументального труда
«Геотектоника» (1930), серьезно задумавшемуся над применением диалектической
философии к геологическим процессам, удалось сказать после Дарвина новое слово.
Тетяев доказывал, что в геологической летописи сохраняются преимущественно те
породы, которые накоплялись в наиболее пониженных участках земной коры, не
подвергавшихся разрушению.
Ефремову оставалось сделать следующий
шаг — вплотную подойти к выявлению диалектических закономерностей, лежащих в
основе разрушения пород, или деструкции.
Рассуждал он таким образом. Живые
организмы, превращаясь в окаменелости, из составной части биосферы (живой
оболочки земли) становятся составной частью литосферы (каменной оболочки
земли). Значит, любые ископаемые остатки могут получаться только в результате
сложной цепи процессов, начало которой относится к области природы, изучаемой
биологией, а конец — геологией. Следовательно, чтобы понять, как образуются
местонахождения остатков ископаемых животных и растений в слоях земной коры,
нужно вторгнуться в пограничную область между двумя отраслями естествознания,
совместить обе стороны палеонтологии — биологическую и геологическую, которые
механически отделялись одна от другой.
И тогда Ефремов сделал вывод, что в
геологической летописи сохраняются не все типы осадков, а совершенно
определенные. Другие же виды осадочных пород, наоборот, закономерно исчезают из
геологической летописи, унося с собой в небытие и те полезные ископаемые, и
органические остатки, которые свойственны данным породам.
Отсюда также вытекает, что для
каждого геологического периода должны быть свои избирательно накопляющиеся или,
наоборот, избирательно уничтожающиеся полезные ископаемые и органические
остатки. Значение этого, казалось бы, простого вывода было очень серьезным как
для поисков полезных ископаемых (уголь, нефть, фосфориты) и оценки их
месторождений, так и для восстановления действительной картины истории развития
животного мира.
Так зародилась новая отрасль
палеонтологической науки, которую Иван Антонович назвал впоследствии тафономией.[7]
В энциклопедических словарях
тафономия определяется как отрасль палеонтологии, изучающая процессы
образования местонахождений остатков ископаемых животных и растений в слоях
земной коры. Но можно сказать и шире: тафономия — это учение о закономерностях
формирования геологической летописи.
Прежде чем ученый опубликовал в 1950
году свой обобщающий труд «Тафономия и геологическая летопись», отмеченный
Государственной премией и получивший вскоре всеобщее признание, ему удалось
блестяще применить положения тафономии на практике.
Дело было так. В 1946-1949 годах
Ефремов возглавил три последовательные палеонтологические экспедиции Академии
наук в Монгольскую Народную Республику.
В двадцатых годах нашего века в этих
же местах Центральной Азии в течение семи лет работали американские экспедиции
во главе с известным палеонтологом Эндрюсом. Американцы, открыв скопления
костей ископаемых ящеров — динозавров мезозойской эры и древнейших
млекопитающих кайнозоя, совершенно неправильно заключили, что во время
образования этих местонахождений территория Монголии была, как и сейчас,
пустыней — страной с бедным животным и растительным миром. В своих
«реконструкциях» далекого прошлого Эндрюс рисовал драматические картины битв
гигантских животных из-за последних остатков влаги и объяснял этим гибель
исполинских ящеров и скопление костей в тех или иных местах.
Ефремов же был уверен, что нынешняя
пустыня Гоби в доисторические времена представляла собой заболоченную низменность
с глубокими лагунами и богатейшей растительностью — обильной кормовой базой для
исполинских динозавров. В безводной пустыне они просто не могли бы
существовать! И еще до своей поездки в Монголию советский ученый, опираясь на
закономерности тафономии, высказал уверенность, что, во-первых, Монголия не
была пустыней, во-вторых, отсутствие растительных остатков рядом с костями
вымерших животных отнюдь не подтверждает точку зрения Эндрюса (ведь в процессе
переноса растительные и животные остатки распределяются по удельным весам и
неизбежно разобщаются) и, в-третьих, американцы в своих редких маршрутах могли
обнаружить лишь ничтожную часть местонахождений остатков древних животных.
Все эти предположения полностью
подтвердились работами экспедиции Академии наук. Были открыты едва ли не самые
богатые в мире скопления костей динозавров, а также млекопитающих кайнозойской
эры, причем многие из них относятся к ранее не известным видам.
Можно понять
законную гордость ученого, когда он несколько лет спустя заявил: «Появление
тафономии впервые именно в нашей стране не случайно и отражает общее стремление советской науки к всестороннему охвату
изучаемых проблем».
Не странно ли, почему такие на первый взгляд
простые вещи не приходили раньше никому в голову?
Инерция мысли и предвзятые мнения
нередко задерживают на несколько десятилетий важные научные открытия, и тем,
кто их делает, достаточно бывает взглянуть на «давно известное» и «окончательно
установленное» под каким-то особым углом зрения. Одной эрудиции тут недостаточно.
«Воображение важнее, чем знания», — говорил Эйнштейн, и этот афоризм многое
объясняет в психологии научного творчества.
Ефремов, владея всей суммой
геологических и палеонтологических знаний, сумел открыть ключом своего
воображения новые закономерности в формировании геологической летописи. Стоило
только придать мысли диалектический поворот, чтобы обнаружились объективные
процессы, ускользавшие раньше из поля зрения исследователей.
Но ученому-новатору чуждо чувство
самоуспокоенности. Чем глубже становятся знания, тем круче, тем сложнее
дальнейший путь исканий.
То, что много лет назад так поразило
воображение Ефремова-юноши — колдовское умение Сушкина ярко, во всех деталях
восстанавливать ландшафт безмерно далеких геологических эпох и оживлять мир
странных чудовищ, — предстало теперь в несколько ином свете.
В самом деле. Из бесчисленного
множества факторов, определяющих взаимоотношения организма с окружающей средой,
палеобиология (или палеоэкология, как называют ее иначе) учитывает лишь
немногие, да и те очень грубо и приблизительно. В наше время, когда
естествоиспытатели вооружены новыми и весьма эффективными методами
исследования, объяснять структуру организма лишь прямыми взаимоотношениями со
средой — дело совершенно безнадежное...
— В «Тафономии» я рассматривал главным образом формы геологической летописи, — рассказывал нам Ефремов. — Биологической приспособляемости касался лишь попутно, а сейчас, в свете новых научных открытий, она оказывается первостепенной проблемой, открывающей перед палеонтологией широкие перспективы. Виден путь к настоящему анализу. Есть тысячи возможностей, которые помогут «подобрать ключ» к тому, что было раньше, и найти удовлетворительное объяснение сложнейших процессов эволюции, происходивших десятки и сотни миллионов лет назад...
Некоторые из этих возможностей намечены Ефремовым в докладе «О биологических основах палеозоологии», сделанном в 1957 году в Москве и в 1959 году в Пекине и вызвавшем оживленную и острую полемику среди ученых.[8]
Современные палеоэкологические исследования, заявляет Ефремов, не отвечают требованиям восстановления ископаемых остатков в том виде, какой имело животное при жизни, и не могут характеризовать «картины жизни» в местах захоронений. Но отсюда вовсе не следует, что палеоэкология зашла в тупик. Огромные и еще не использованные возможности дают новейшие физико-химические методы исследования. Их можно применять и к непосредственному изучению ископаемых остатков. Например, анализ раковин по методу изотопов позволяет определить температуру морей минувших геологических эпох, то есть установить физический характер среды обитания.
Еще более плодотворны детальные биологические исследования современных животных, показывающие, до какой степени сложны, тонки и противоречивы приспособительные устройства к определенным условиям жизни.
Ведь только недавно удалось установить ультразвуковую локацию у летучих мышей и электромагнитную — у мормеридных рыб; доказать, что птицы и насекомые используют для навигации поляризованный свет; обнаружить неожиданно сложную гравитационную ориентировку по высоте у таких архаических морских форм, как мечехвост, и т. п.
Благодаря громадному количеству разнообразных адаптаций[9] можно подбирать аналогичные приспособления у вымерших и современных животных, особенно «реликтовых» пород, так как на скелетных остатках организмов минувших геологических эпох почти всегда обнаруживаются устройства, сходные с теми, какие мы находим у ныне живущих.
В природе нет ничего маловажного и случайного. В каждом отдельном органе и системе органов,
образующих сложнейшую «энергетическую машину» — организм, идет непрерывная
борьба противоположных сил. Поэтому приспособление к окружающим условиям
осуществляется в ходе эволюции самыми неожиданными путями.
Антилопа-геренук отличается развитием
органов равновесия во внутреннем ухе, свойственным двуногим животным. Это
понятно, если вспомнить, что геренук добывает себе пищу с веток акаций,
постоянно вставая на задние ноги. Архаические куницеобразные хищники — виверры
и генетты — обладают особым свойством необычайно быстрого («молниеносного»)
движения, свойством, отраженным в своеобразном строении головного мозга. Однако
физиология этих, как и многих других «реликтовых» животных еще очень слабо
изучена.
Ефремов приводит десятки примеров,
показывающих, что в самом незаметном устройстве подчас таится важная
приспособительная деятельность. «Нам представляется, — пишет он, — что главное
направление развития биологической основы палеозоологии лежит на пути
всестороннего изучения адаптации, что в конечном итоге даст возможность прямой
оценки и сравнения организмов как энергетических систем. Выявление
энергетической сущности приспособления подводит нас к познанию окружающей среды
как энергетической базы. Это уточняет наше представление о геологическом
прошлом даже при неполноте геологической летописи».
Эти выводы имеют отношение не только
к палеонтологии, но и к биологической науке в целом. Диалектический метод в
анализе и оценке явлений природы, утверждает ученый, должен окончательно
вытеснить «однолинейную» формальную логику: «Сущность диалектического анализа
биологических или палеонтологических и вообще всяких явлений заключается прежде
всего во вскрытии двойственности, противоречивости всякого явления и всякого
развития. В сочетании с историческим подходом анализ развития противоречий и
единства противоположностей должен дать хорошие результаты».

И.Ефремов в пустыне Гоби с сотрудником экспедиции. 1949
Тафономический анализ разрушающей
стороны геологических процессов позволил вскрыть важные закономерности
формирования геологической летописи.
Анализ «оборотной» стороны —
невыгодности, незаконченности или слабости в определенных условиях жизни —
любой адаптации поможет уяснить сложную
и противоречивую сущность процесса биологических приспособлений. Таковы
творческие искания Ефремова на последних этапах его научной деятельности.
Но как же все-таки случилось, что
доктор биологических наук, ученый-палеонтолог, чье имя давно уже приобрело
международную известность, создатель нового раздела науки, тафономии, и автор
многочисленных специальных трудов — стал одновременно крупнейшим
писателем-фантастом?
С давних пор Ефремову хотелось
передать в непринужденно-повествовательной форме свои многообразные впечатления
путешественника и исследователя. Он порывался писать еще в тридцатых годах, но
первые опыты были неудачными.
«Несколько раз, — признался он
журналисту И. Оглоблину, — я приступал к написанию чего-то вроде воспоминаний
геолога. Было потрачено порядочно бумаги, но попытки литературной композиции
казались неинтересными, слова — пошлыми, описания природы — безвкусными. Теперь
я понимаю, что основной причиной неудачи была большая занятость в науке. Не
было возможности отойти от окружающего, посмотреть со стороны глазами
художника, иметь время для неторопливого и тщательного раздумья».[10]
Такая возможность впервые
представилась ему в 1942 году.
Во время одной из экспедиций в
Среднюю Азию он заболел какой-то странной, не распознанной врачами тифоидной
лихорадкой. Тяжелые приступы обрушивались на него с дьявольской регулярностью
каждые пять лет. И вот в 1942 году, в Свердловске, Ефремов оказался надолго
прикованным к постели.
Каково было ему, человеку кипучей энергии, всегда ставившему перед собой трудноразрешимые задачи, признать свое поражение и примириться с ролью беспомощного больного!
Вот тогда и произошло то, что должно было рано или поздно случиться: он принялся сочинять, но уже не воспоминания геолога, а рассказы. Могучая сибирская природа, таящая в своих недрах неисчислимые богатства; цельные, мужественные характеры людей, выросших в трудных и суровых условиях; предания и легенды северных народов; жизнь и быт геологов, прокладывающих первые тропы сквозь тайгу и тундру; неизгладимые воспоминания о море, — все это вдохновило Ефремова на создание его первых рассказов.
А спустя некоторое время, уже
перебравшись во Фрунзе, куда была завезена часть имущества Палеонтологического
института, Ефремов, получив необходимые ему материалы, приступил к работе над
своей «Тафономией», но, сам того не сознавая, был уже отравлен литературой. И
конечно, не случайные обстоятельства сделали его писателем. Они явились только
внешним толчком, освободившим время и энергию, чтобы выразить то, что давно уже
созрело в его внутреннем «я», будоражило воображение и просилось на бумагу.
Двусветный гимнастический зал
Киргизского педагогического института, облитый ослепительным солнцем, привлекал
несметные полчища мух. От жары и от мух не было никакого спасения. Ефремов
устроил себе «кабинет» в тамбуре между дверьми. Стулом и столом служили два
ящика разных размеров.
Сюда он забирался со стаканом патоки
для подкрепления сил и, слегка приоткрыв наружную дверь, работал над
«Тафономией», а попутно в «часы отдыха» продолжал сочинять рассказы.
Так возник и был осуществлен всего
лишь за несколько месяцев замысел «Семи румбов».
Цикл состоял из следующих рассказов:
«Встреча над Тускаророй», «Сумасшедший танк», «Эллинский секрет»,
«Олгой-хорхой», «Катти Сарк», «Озеро Горных Духов»[11],
«Путями старых горняков».
Два рассказа остались
неопубликованными.
— «Сумасшедший танк», — сообщил нам Ефремов, — получился неудачным, и я
не стал его печатать. Действие происходит во время войны. Танк отрывается от
своей части, его окружают немцы. Чтобы не попасть в плен, командир направляет машину на отвесную скалу.
Танк неожиданно проваливается в пещеру, его засыпает землей, и он оказывается
недосягаемым для врагов. Танкисты приходят в себя после шока, с трудом
выбираются из танка и находят наскальные изображения африканских животных,
сделанные много тысячелетий назад. Сюжет сам по себе наивен, но мотив,
связанный с палеолитическими изображениями африканской фауны, на этот раз в
глубине Сибири, я использовал позднее в рассказе «Голец Подлунный»...
Что касается «Эллинского секрета», то
творческая история этого давнишнего замысла еще не завершилась.
— Речь идет о «наследственной
памяти», памяти опыта далеких предков. С возникновением кибернетики это
становится понятным и объяснимым, а тогда казалось чуть ли не мистикой, и
рассказ был забракован как антинаучный. Это — история одного молодого
скульптора, который должен был сделать статую. У него — из-за ранения —
теряется сила в руках, и он «вспоминает» секрет эллинских мастеров, которые
умели с помощью особого состава размягчать слоновую кость и лепить из нее, как
из воска. До нас дошли такие статуэтки, вылепленные, а не вырезанные из
слоновой кости, но секрет этот утерян...
Прошло много лет, и сюжет, связанный
с «наследственной памятью», получил более глубокое обоснование. В 1959 году
Ефремову показали в Нанкинской обсерватории бронзовый глобус, относящийся к I
веку нашей эры, с узорами созвездий, которые можно увидеть только из южного
полушария. Выходит, что восточные мореплаватели, хотя об этом не сохранилось
никаких письменных подтверждений, проникли в южные моря столетий за
четырнадцать до Магеллана!
Древний китайский глобус поразил
воображение Ефремова.
«Явилась мысль соединить в одном
рассказе далекую историю с последними открытиями в области кибернетики, с
исследованиями по механической памяти и т. п. Я, — рассказывает он, —
представил себе: мозг одного из героев, прямого потомка отважных
мореплавателей, хранит память об этом событии. Предание о нем передается из
рода в род уже в виде каких-то почти неуловимых и смутных полувоспоминаний.
Сложным путем, практически еще недоступным науке, удается «записать» эти слабые
импульсы, а затем «прочесть» их и восстановить вековую историческую загадку».[12]
Так был задуман еще не
написанный рассказ «Высокий перекресток». Заманчивая идея, намеченная в
«Эллинском секрете», долгое время продолжала жить подспудно, пока не
возродилась в совершенно новом качестве благодаря прихотливому сцеплению
мыслей.
...1944 год ознаменовался для
Ефремова стремительным вторжением в литературу. Почти одновременно с выходом в
издательстве «Молодая гвардия» первой книги рассказов[13]
и в Воениздате второго сборника «Встреча над Тускаророй» — их опубликовали
«Новый мир», «Техника — молодежи» и военные журналы «Краснофлотец» и
«Красноармеец».
Ефремов сразу же получил признание
как талантливый и самобытный писатель. Одним из первых заметил и оценил
литературный талант ученого Алексей Николаевич Толстой.
Тяжко больной, находясь
уже на пороге смерти, Алексей Николаевич продолжал живо интересоваться всем,
что происходило в советской литературе. Он пригласил Ефремова к себе в
Кремлевскую больницу и несколько часов беседовал с автором «Рассказов о
необыкновенном». Особенно заинтересовал Толстого своеобразный творческий метод
Ефремова. Иван Антонович подробно рассказал о нем Толстому.
В своей работе он, Ефремов, идет от
зрительного представления, от картины. Прежде чем написать ту или иную сцену,
он должен увидеть ее в воображении до мельчайших подробностей — в красках, в
звучании — и лишь потом постараться ее описать. Такой прием вполне закономерен
для человека, который в течение двадцати пяти лет описывал в научных статьях
всевозможные явления природы и «набил руку» в самых разнокачественных и порою
очень трудных описаниях.
Когда же разговор зашел о фантазии как непременном свойстве профессии геолога и палеонтолога, Ефремов рассказал Алексею Николаевичу, как фантазия не раз помогала ему предвидеть в науке то, что позже подтверждалось экспериментом. Хотя бы такой случай. В 1929 году он написал статью для немецкого журнала «Геологише Рундшау» о геологическом исследовании океанского дна. В ней Ефремов высказывал соображения о необходимости поисков в океане мест со сложным рельефом, не покрытых осадками, что помогло бы выяснению геологической структуры. Рукопись вернули обратно с рецензией самого крупного в те годы специалиста по морской геологии, профессора Отто Пратье. Маститый рецензент заявил, что заключения Ефремова вздорны, невероятны и фантастичны, ибо, по его, Отто Пратье, мнению, дно океанов представляет плоскую равнину, наглухо закрытую рыхлыми остатками. Однако дальнейшие исследования полностью подтвердили правоту Ефремова.
А. Н. Толстой особенно одобрительно
отозвался о той «правдоподобности необычайного», которую он почувствовал в
первых рассказах Ефремова.
Единственная встреча с автором
«Аэлиты» и «Петра Первого», с писателем, которого Ефремов очень любил,
заставила его поверить в свое литературное призвание.
Интенсивная и многообразная научная
деятельность не помешала ему продолжить серию «Рассказов о необыкновенном». До
конца 1944 года были написаны и частично опубликованы семь новых вещей: «Голец
Подлунный», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Атолл Факаофо»,[14]
«Бухта радужных струй», «Последний марсель», «Белый Рог»,[15]
«Алмазная труба» и затем, после некоторого перерыва, «Тень минувшего». За один
только 1944 год Ефремов опубликовал в двух сборниках и в журналах десять
рассказов и в следующем году еще три.
С тех пор произведения Ефремова
заняли прочное место в советской литературе. Одно издание следовало за другим.
К началу пятидесятых годов его рассказы были изданы на украинском, эстонском,
латышском, литовском, болгарском, венгерском, польском, румынском, чешском,
немецком, французском и английском языках. Литературная известность
писателя-фантаста вышла далеко за пределы Советского Союза.
К тринадцати рассказам,
опубликованным в 1944-1945 годах, в последующие годы прибавились следующие
произведения: историческая дилогия «Великая Дуга» («На краю Ойкумены», 1949, и
«Путешествие Баурджеда», 1953),[16]
первая космическая повесть «Звездные корабли» (1947), путевые заметки «Дорога
ветров» (1956), роман «Туманность Андромеды» (1957), рассказы «Адское пламя»
(1954),[17]
переработанный вариант «Катти Сарк» (1958), «Cor Serpentis (Сердце Змеи)»
(1959), «Юрта ворона (Хюндустыйн Эг)» (1960), «Афанеор, дочь Ахархеллена»
(1960).
Все произведения Ефремова — и
«Рассказы о необыкновенном», и повесть «Звездные корабли», и дилогия «Великая
Дуга», и «Туманность Андромеды» — звенья одной цепи, определяющей стремление
писателя видеть в «реке времени» единый, диалектически развивающийся
исторический процесс — от зарождений жизни и разума до высочайших вершин
человеческой мысли и знания.
В конце 1962 года Ефремов завершил
работу над новым романом «Лезвие бритвы». Замысел этого произведения связан с
дальнейшим развитием современных научных взглядов на биологию, психофизиологию
и психологию человека. Отсюда проистекают моральные и эстетические проблемы,
характерные для нового общества и нового человека. Писатель хочет доказать, что
внутри каждого из нас таятся нераскрытые могучие силы, пробуждение которых,
путем соответствующего воспитания и тренировки, неизбежно приведет к тому
духовному богатству, о каком мы мечтаем лишь для людей грядущей
коммунистической эры. То же самое можно сказать и о физическом облике человека.
Таким образом, задача этого романа — искать прекрасное не только в далеком
будущем человечества, но уже в наши дни, сейчас, и не для одаренных одиночек, а
для всех!
Одновременно писатель работает и над новой космической повестью «Долгая
Заря», которая явится своего рода продолжением «Туманности Андромеды» и «Сердца
Змеи». Это — путешествие землян на отдаленную планету в созвездии Рыси, где, в
силу особых обстоятельств, задержался переход к коммунистическому обществу и
властвует, при весьма высоко развитой технике, олигархия фашистского типа. Столкновение людей коммунистической
Земли с этой олигархической системой хотя и закончится трагически для экипажа
звездолета «Темное пламя», но укажет разумным существам далекой планеты путь к
построению совершенного общества, путь к счастью. В намерение писателя входит
также показать грубейшие ошибки против марксистско-ленинского учения о развитии
общества, которые допущены многими авторами, пытающимися изобразить в
научно-фантастических произведениях олигархические режимы на некоторых
обитаемых мирах в космосе.
Если попытаться коротко сформулировать
генеральную тему всего многообразного творчества И. А. Ефремова, то можно
сказать примерно так: его волнует и занимает человек в обществе, где наука
становится важнейшей и решающей стороной человеческого бытия. К решению этой
сложнейшей темы писатель идет медленно, как бы преодолевая всё более крутые
подъемы. Первая ступень, по его словам, — это «приключение, сдобренное наукой».
Вторая ступень — «наука, сдобренная приключением». Иначе говоря, сперва наука
как интересное явление окружающего мира («Рассказы о необыкновенном»), потом
наука как средство перестройки действительности («Туманность Андромеды») и,
наконец, наука как средство перестройки самого человека (отчасти «Сердце Змеи»
и в полной мере — «Лезвие бритвы»).
Связь науки и литературы осуществляется
самыми различными путями. Написать книгу о жизни ученого — еще не значит понять
ученого и раскрыть внутренние пружины его деятельности.
Как темы науки становятся темами
литературы и искусства?
Может ли сама наука и эмоции,
связанные с научным творчеством, служить предметом художественного изображения?
Может ли писатель показать человека
науки, одержимого научными идеями, не касаясь существа самих идей?
На эти вопросы во многом отвечает
творчество Ефремова, который в своей писательской деятельности всегда остается
и ученым, и художником.
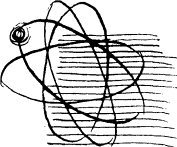 Глава вторая
Глава вторая
Лестница знаний. —
Взаимодействие и взаимопроникновение наук. — Движение к синтезу. — И. Ефремов —
естествоиспытатель-диалектик. — Историзм
мышления. — Палеонтология и древние мифы. — Единство научного и
литературного метода. — Фантастика в науке и литературе. — Почему вымерли
динозавры? — Споры о ,,снежном
человеке". — Романы В. А. Обручева. — Традиции К. Э. Циолковского. — Эволюция
картины мира. — Философия современного естествознания. — Научная фантастика и
творчество Ефремова.
И. Ефремов пришел в литературу от науки — со своими сложившимися интересами, взглядами, убеждениями, широким кругозором естествоиспытателя-диалектика. Это и определяет в первую очередь его оригинальность как писателя. Он мог бы сказать о себе, перефразируя Маяковского: «Я — ученый. Этим и интересен». Не только сюжеты и тематика произведений, но и манера изложения, особенности языка и стиля подсказаны его научными увлечениями и профессиональным опытом исследователя, стремящегося всегда и во всем доискиваться до «первопричины», рассматривать любое явление с разных точек зрения, подвергать его придирчивому анализу.
Легко заметить некоторую общность логических доказательств и метода обоснования новых идей в его научных трудах и художественных произведениях. Ефремов-писатель как бы дополняет и продолжает Ефремова-ученого.
Способность легко и непринужденно подниматься от частного к общему, от отдельного факта к множеству причин и следствий, от разрозненных наблюдений к еще не познанной, но уже наметившейся в воображении картине целого — характерная черта Ефремова, выделяющая его среди многих литераторов, пишущих на научные темы.
Пафос безграничного познания, радость постижения окружающей природы и всего материального мира — основа основ его литературного творчества. И в большом, и в малом он старается уловить действие определенных закономерностей, за хаосом фактов — железную логику причинности. Иначе говоря, материалистическая диалектика подчиняет себе работу мысли ученого и художника, в каком бы направлении она ни велась.
В наше время самые значительные открытия происходят, как правило, на стыках разных наук. В предвидении такой возможности Энгельс заметил, что именно в местах соприкосновения наук «надо ожидать наибольших результатов».[18] В ХХ веке этот гениальный прогноз полностью подтвердился.
Наряду с дальнейшей дифференциацией все более усиливается единый и противоречивый процесс взаимодействия и взаимопроникновения разных отраслей знания. Грани между науками становятся подвижными и относительными. Соприкасаются не только смежные, но иногда и очень далеко отстоящие друг от друга дисциплины, и это позволяет одной науке успешно использовать идеи и методы другой.
Так называемые «стыковые», «пограничные» науки являются не просто соединительными звеньями между ранее сложившимися областями знания, но играют самостоятельную роль, обладают своим собственным предметом и свидетельствуют о более глубоком проникновении познающей мысли человека в тайны бесконечно сложной, но единой действительности.
Например, на грани геологии и химии возникла геохимия. Соприкосновение геохимии и биологии, в свою очередь, породило биогеохимию. На стыке физики и химии возникла химическая физика, применяющая новые идеи физики к химическим процессам и явлениям. Объединение астрономии и физики еще в прошлом веке дало начало астрофизике, а взаимодействие последней с современной ядерной физикой оказалось исключительно плодотворным для той и другой науки, и т.д.
В работах И. П. Павлова физиология впервые столкнулась с психологией, педагогикой и другими гуманитарными дисциплинами. Применение электронно-вычислительных устройств к лингвистическим исследованиям и установление общих законов, лежащих в основе построения всех языков, вызвало к жизни новую отрасль языкознания — структурную лингвистику. Она помогла не только осуществить машинный перевод с одного языка на другой, но и создать универсальный «язык-посредник». Так начинают стираться казавшиеся прежде совершенно непроходимыми границы между гуманитарными и точными науками.
Сбывается предвидение Маркса, заметившего в одной из своих ранних работ: «Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука».[19]
…В произведениях Ефремова, как и в его ученых трудах, мы находим прямые отголоски этого движения современной науки к всеобщему синтезу, который позволит со временем построить новую, более совершенную, чем в ХХ веке, единую естественнонаучную картину мира.
Ефремов, как мы уже видели, достиг в своей научной деятельности плодотворных результатов именно потому, что сумел применить новую методику исследования, связывающую несколько смежных дисциплин. Как писатель он действует в том же направлении, вводя в сюжетную ткань новейшие научные идеи и свои собственные открытия и гипотезы. В его книгах на каждом шагу сталкиваешься с самыми неожиданными переплетениями и ошеломляюще парадоксальными сочетаниями наук, далеко отстоящих друг от друга в обычной систематике знаний, — палеонтологии и астрономии, геологии и этнографии, медицины и фольклора, биологии и математики, археологии и физики и т.д.
Критики давно уже обратили внимание на то, что в основу многих произведений Ефремова положена мысль о возможности каких-то принципиально новых открытий на стыках разных наук. Придавая этому вопросу первостепенное значение, он постоянно возвращается к нему и в своих популярных статьях.
«Самые новые, заманчивые и многообещающие пути и взгляды в науке, — пишет Ефремов, — как правило, возникают в столкновении противоречащих друг другу фактов и явлений... Новые открытия рождаются очень часто в стороне от проторенных русел, по которым течет основная масса работы в данной науке, и еще чаще на стыке двух наук, когда методы и запас сведений из одной отрасли познания начинают служить для объяснения явлений, изучаемых другой наукой».[20]
Намечать многообразные решения поставленной задачи — и в реальном, и в фантастическом планах — писателю Ефремову помогает все та же палеонтология. Ее особое, «пограничное» положение на лестнице знаний между двумя разделами естествознания — геологией и биологией — побуждает ученого беспрестанно расширять сферу приложения своих интеллектуальных сил и способностей.
Палеонтологи и геологи, стремящиеся прокладывать в науке новые пути, в наше время не могут не заинтересоваться астрономией, с которой, на первый взгляд, у них нет никаких точек соприкосновения. Когда известный советский геолог А. В. Хабаков опубликовал в 1949 году книгу «Об основных вопросах истории развития поверхности Луны», ему пришлось выслушать немало снисходительных упреков. Тему исследования многие его коллеги сочли неактуальной и оторванной от современности. «Действительно, — пишет по этому поводу Ефремов, — геология недостижимого спутника, в то время когда на Земле и в нашем отечестве еще много неисследованных мест, может показаться праздной игрой ума. На самом деле, всякое серьезное научное исследование есть кирпич фундамента будущих исследований, ибо в окружающей нас природе, формировавшейся миллиарды лет, нет маловажных явлений. И теперь геология Луны — вовсе не какое-то отвлеченное «знание для знаний», а представляет существенное значение для полета первого лунного корабля».[21]
Любопытную перекличку геологии и астрономии мы находим и в книге Ефремова «Дорога ветров». Обобщение данных, полученных геологическими и палеонтологическими исследованиями, которые велись на огромных территориях в течение многих десятилетий, наталкивает его на смелую гипотезу, далеко выходящую за пределы непосредственной специальности ученого. В Центральной Азии он обнаружил нижнепермские отложения с флорой южных материков, подобные тем, какие были найдены раньше в Сибири и в Индии. Это факт большого научного значения. Стало быть, однородные отложения конца палеозойской эры протягиваются с севера на юг, от Арктики до Антарктики. Интересно проследить за ходом мысли Ефремова.
«Если эта полоса означала климатический пояс, то, значит, климатические пояса верхнего палеозоя располагались перпендикулярно к современным и экватор пермского времени стоял «вертикально», как наш современный меридиан. Следовательно, ось нашей Земли лежала в плоскости эклиптики, в плоскости вращения планет вокруг Солнца, подобно тому как вращается в настоящее время планета Уран. Само собой разумеется, что решение проблемы потребует еще длительной, большой работы. Астрономы, пока упорно верящие в незыблемость планетных осей, будут находить всяческие возражения и авторитетно «опровергать» нас — геологов».[22]
Легко заметить в этих поразительных умозаключениях много общего с методом построения и обоснования фантастических гипотез и в художественных произведениях Ефремова. В частности, на неожиданном сближении палеонтологии с астрономией держится сюжет его известной повести «Звездные корабли».
От проблемы эволюции и развития жизни во Вселенной мысль палеонтолога обращается к человеку, самому драгоценному созданию материи. Земля насыщена памятью прошлого. «В самых верхних ее слоях — орудия, черепки сосудов и другие предметы человеческого обихода. Глубже — стволы древних растений, кости вымерших животных. А еще ниже — в пока недоступной нам глубине, таятся древние химические элементы — огарки звездного вещества…» Палеонтолог часто соприкасается в своей работе с археологом, ведущим раскопки на тех же участках, только в верхних слоях. Вообще археология родственна палеонтологии. Ученые обеих специальностей восстанавливают звенья одной гигантской цепи — эволюции. В каком-то определенном пункте они встречаются и объединяют свои усилия. Это — плиоцен, когда появились уже современные типы животных, человекообразные обезьяны и происходило формирование предков человека.
Тем самым палеонтология вторгается в область исторических наук. Прослеживая по ископаемым остаткам последовательное развитие и преемственность жизненных форм, «палеонтология имеет много сходства с историей, особенно с древней историей».[23] Изучение процесса эволюции доводит палеонтолога до последнего звена, когда геологическая летопись уступает уже место человеческой. «И тогда приходит отчетливое понимание, насколько важно познание прошлого. Без этого знания мы никогда не поймем, как появились, как исторически сложились среди всей остальной жизни мыслящие существа — мы, люди! Только прикоснувшись к познанию прошлого, мы можем по-настоящему понять истинную ценность жизни».[24]
Своеобразие Ефремова — ученого и мыслителя — в том, что он в состоянии охватить исторический процесс в его всеобъемлющем комплексе. От далекого прошлого Земли и предыстории человечества он свободно переходит к временам грядущим, опираясь на познанные закономерности исторического и научного прогресса. Ефремов и в своей писательской деятельности оперирует гигантскими масштабами времени — будь то история Земли или исторический путь человечества.
В сферу изучения вовлекается и материал унаследованных традиций, которые помогают проложить мост через пропасть времени, отделяющего настоящее от прошлого. В народных преданиях и старинных легендах часто содержатся отголоски реальных событий, ценнейшие зерна истины, которые пытливый ум исследователя отделяет от плевел.
— Вообще народная память, — говорил нам Ефремов, — более устойчива, чем принято думать. Знаете ли вы, что в Аравии и в Северной Америке сохранились народные легенды, очень точно рассказывающие о падении гигантских метеоритов? Новейшие методы исследования — углеродные измерения — позволили установить, что речь идет о действительных событиях пяти-шеститысячелетней давности. Мы часто не учитываем, как долго сохраняются в народной памяти события, превратившиеся в мифы и легенды, а к мифам и легендам надо относиться с большим почтением. Известны многочисленные сказания о битве людей с гигантами (отголоски их имеются и в Библии). Это вовсе не вымысел. Когда-то существовали четырехметровые человекоподобные обезьяны, современники синантропов и питекантропов. Надо полагать, что они продолжали еще жить во времена неандертальцев. Палеонтологами найдены огромные обезьяньи зубы, в восемь раз превосходящие по величине зубы гориллы. Сохранились и остатки исполинских черепов. Как видите, палеонтология объясняет один из древнейших мифов...
Когда появляется необходимость, ученый пользуется не только историческими документами, но привлекает на помощь и данные этнографии, народную медицину, местный фольклор, рассказы старожилов, нередко облегчающие решение поставленной задачи. Совершенно неожиданное истолкование получают у Ефремова сказочные представления о живой и мертвой воде, о таинственных целебных силах, о драконах и злых духах, всевозможных загадочных феноменах.
Еще задолго до поездок в Монголию он узнал из отчета американской палеонтологической экспедиции Эндрюса аратскую легенду об ужасном пресмыкающемся — большом и толстом черве, живущем якобы в недоступных песчаных местах Гобийской пустыни и способном убивать на расстоянии любое животное. На основе этой легенды и был написан рассказ «Олгой-хорхой». Позже, когда Ефремов попал в Монголию, то при первой же возможности завел с аратами разговор об этом странном существе.
«Никто из ученых-исследователей, — пишет он в «Дороге ветров», — не видел необычного червя, но легенда о нем так распространена и так единообразна, что, нужно думать, в ее основе действительно есть какое-то чрезвычайно редкое вымирающее животное, вероятно пережиток древних времен, уцелевший теперь в самых пустынных уголках Центральной Азии».[25]

И. Ефремов на изысканиях в Центральной Гоби. 1948
О том, какое значение Ефремов придает народным традициям, знаниям и опыту, можно судить по сюжетам его рассказов, основанных часто на воображаемых сопоставлениях фольклорных источников с материалами научных наблюдений. Объекты сопоставлений настолько далеки друг от друга и находятся в таких разных плоскостях, что установление неожиданных связей между ними создает удивительный эффект.
Казалось бы, какой интерес могут представлять для палеонтолога, имеющего дело с «дочеловеческой историей», архивные документы и свидетельства старожилов? Однако, когда Ефремову вплотную пришлось заняться фауной медистых песчаников, относящихся к периоду возникновения первых звероподобных пресмыкающихся, он должен был прежде всего установить местонахождение нужных ему геологических образований. На помощь пришли архивные материалы по горным работам Оренбургского горного округа, а потом уже удалось отыскать и исследовать старые подземные выработки. В общей сложности эта работа заняла около двадцати лет. В итоге в 1954 году 6ыл опубликован капитальный труд «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья».
В предисловии Ефремов воздает должное местным рудознатцам: «Трудная задача отыскания и исследования старых подземных выработок в Каргалинских и Уфимских рудниках была значительно облегчена мне благодаря указаниям на месте, предоставлению черновиков старинной маркшейдерской съемки и сообщению обширных сведений по памяти, сделанных мне двумя, ныне покойными, штейгерами Пешковской горной конторы — К.К. и А.К. Хреновыми. Из них К. К. Хренов, работая на рудниках еще в шестидесятых годах прошлого столетия, смог сообщить мне наиболее важные сведения относительно старых рудников, представлявших с точки зрения находок позвоночных наибольший интерес».
Это предисловие к сугубо специальному труду заставляет вспомнить рассказ Ефремова «Путями старых горняков». Выясняется происхождение не только замысла рассказа, но и образа главного героя, девяностолетнего штейгера Поленова, совершившего вместе с горным инженером Каниным опасное путешествие по заброшенным подземным выработкам и поведавшего ему поэтичное предание из истории местных рудников, которое оказалось былью.
Когда читаешь Ефремова, словно присутствуешь при самом процессе рождения открытий на гранях разных наук и видишь, как раздвигается лестница знаний. Для удобства изучения единую науку принято еще дробить на множество изолированных областей и мелких участков. Но такое механическое дробление живого и развивающегося целого противоречит диалектике природы. Для ученого, стремящегося проникнуть в глубину явлений, не существует обособленных участков.
Английский физик Д. Томпсон заметил в книге «Предвидимое будущее», что в наше время редко встречаются люди, способные выйти за пределы своей узкой профессии. «Поскольку, — пишет он, — для работы по избранной специальности человеку требуется знать очень многое, он испытывает величайший соблазн учить как можно меньше из того, что ему в работе непосредственно не пригодится. У него создается однобокое представление о мире, в котором он живет. В соответствии со своими интеллектуальными склонностями человек тяготеет к одной из двух областей знания: к гуманитарным наукам, если его интересуют преимущественно люди и слова, или к естественным наукам и технике, когда его интересуют преимущественно вещи и идеи».[26]
Ефремову как раз не свойственна такая ограниченность. «Вещи и идеи» интересуют его так же, как «люди и слова».
Во всех своих трудах — и научных и литературных — он исходит из материалистических представлений о единстве мироздания и неделимости природы, которые постигаются как одно целое в миллионах взаимосвязей и переходов.
Новаторство
Ефремова как писателя-фантаста, его внутренняя
правота — в том, что он опирается не на отдельные — случайно выхваченные из
процесса — достижения науки и техники, а на
современную науку в целом, на синтез
многих наук.
Путь разума лежит через фантазию. Творческое воображение — неотъемлемое свойство мышления. Воображение и фантазия стимулируют созидательную деятельность. Ленин считал фантазию качеством величайшей ценности. «Напрасно думают, — говорил Владимир Ильич, — что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии».[27]
В палеонтологии тем более без нее не обойтись. Все крупные палеонтологи, от Кювье и Жоффруа Сент-Иллера до Ковалевского и Сушкина, умели мыслить образами, воссоздавать по части целое, рисовать в воображении картины жизни далеких геологических эпох, иначе говоря, все они были в какой-то степени фантастами. Без этой способности они не сказали бы нового слова в науке. О Ефремове не приходится и говорить, раз научная фантастика стала его вторым призванием! Добираясь до истоков его творчества, начинаешь отчетливо понимать, как много значат для одаренной личности воображение и фантазия, и как часто еще мы недооцениваем огромную важность этого субъективного фактора.
Особенно интересны в методическом отношении научно-популярные статьи Ефремова «Что такое тафономия?» и «Вопросы изучения динозавров». Из множества проблем, затронутых ученым, выберем наудачу одну-единственную и попробуем проследить за ходом его рассуждений. Вот, например, как он объясняет эволюцию и последующее вымирание гигантских ящеров — величайших наземных животных всех геологических эпох.
Для
среднего мезозоя было типично весьма низкое строение материков, громадные прибрежные низменности и лесные болота. Низкие берега полого
уходили под уровень моря.
Здесь была громадная жизненная зона, обильная пищей, и вместе с тем мощные
приливные волны и широкая
полоса прилива-отлива. Исполинские ящеры-зауроподы в десятки тонн весом успешно сопротивлялись напору приливных волн, ветрам и бурям
и не тонули при подъеме
воды, освоив, таким образом, новую, громадную зону обитания, где у них не было
конкурентов. Отсюда развитие
больших когтей, чтобы цепляться за грунт, и длинной шеи, чтобы доставать пищу со дна на глубине до восьми метров.
Ефремов полемизирует с учеными, объясняющими гигантизм зауропод чисто внутренними причинами — непомерным, болезненным развитием гипофиза. Нет, говорит советский палеонтолог, гигантизм зауропод явился приспособлением к такой обстановке обитания, в которой могли жить только гиганты! Увеличение роста и, вероятно, ускорение роста, чтобы молодые животные быстрее достигали размеров, минимально необходимых для жизни в этих условиях, и привело к усилению действия гипофиза.
По мере того как сокращались затопляемые низменные прибрежья, сокращалась и зона обитания зауропод. Вымирание этих животных, а также других разновидностей гигантских ящеров обусловливалось еще и неразрешимым противоречием между ничтожным развитием мозга и необходимостью заботы о потомстве. Это противоречие успешно преодолели млекопитающие, обладавшие высокой энергетикой организма и многими другими преимуществами перед динозаврами.
Рассуждая и дальше таким же образом, ученый приходит к выводу, что распространенные реконструкции и картины жизни мезозойских наземных позвоночных ошибочны, так как в них не учитываются разные зоны обитания, делавшие соприкосновения ящеров разных типов не характерными.[28]
Ефремов увлекает читателей не только обоснованностью и стройностью научных концепций, но и богатым воображением, творческой фантазией, позволяющей ему свободно переходить от анализа к синтезу, от изучения и сопоставления частных фактов к широким обобщениям. В самом способе рассуждений и доказательств, строгих, точных и хорошо мотивированных, есть своя художественность, своя эстетика, как во всякой работе, выполненной мастером и знатоком своего дела. Мы не просто следим за развитием мысли ученого. Он вводит нас в свое святилище, раскрывает тайное тайных, показывает, как от незнания и сомнений он пришел к знанию и уверенности в своей правоте.
Но вот что характерно. Ученый, не боящийся самых смелых гипотез, писатель, известный своей дерзновенной фантазией, иной раз оказывается наитрезвейшим скептиком.
В разгар сенсационной шумихи, вызванной поисками «снежного человека», Ефремов, к большому разочарованию энтузиастов, заявил, что народная легенда в данном случае ввела ученых в заблуждение. Если в ней и содержится «зерно истины», то относится оно к незапамятным временам, а сейчас бесполезно искать на Памире и в Гималаях «обезьяно-человека», как ни хотелось бы восполнить брешь в лестнице высших млекопитающих, приведших к Homo sapiens. И понятно почему. «Для нашего биолога, — пишет Ефремов в статье «Что такое тафономия?», — рассмотрение организма вне условий его существования, то есть пищи, окружающей среды, размножения и т. п., столь же нелепо, как, например, для конструктора самолета нелепо вести изучение проблемы летания, не принимая во внимание воздух». С этой точки зрения возможность консервации крупного антропоида в необычайно суровых природных условиях представляется по меньшей мере сомнительной.[29]
Таковы особенности научного мышления Ефремова. И в его художественном творчестве пылкая фантазия уживается со здоровым скептицизмом и трезвым анализом фактов.
Любовь к необычному, юношеская тяга к романтике и приключениям заставила Ефремова выбрать свою профессию, которая, в свою очередь, сделала его писателем-фантастом, как это случилось значительно раньше с академиком В. А. Обручевым.
Обручев, наряду с К. Э. Циолковским, А. Н. Толстым и А. Р. Беляевым, был одним из зачинателей советской научной фантастики. Ученый-геолог и знаток палеонтологии, он не мог простить своим предшественникам — Жюлю Верну («Путешествие к центру Земли»), Конан-Дойлу («Затерянный мир») и чешскому писателю Карлу Глоуху, автору романа «Заколдованная земля», — многочисленных ошибок и несообразностей, проистекающих от поверхностного ознакомления с предметом. Противопоставив их произведениям свои романы на сходную тему, он решил показать, какие богатые возможности открываются для писателя, обладающего специальными познаниями в интересующей его области.
Романы Обручева «Плутония» (1924) и «Земля Санникова» (1926) до сих пор привлекают молодых читателей романтикой географических подвигов, причудливым совмещением фантастической фабулы с научной достоверностью. Но написаны его книги в традиционной манере, сложившейся еще в XIX веке, когда писатели могли опираться лишь на отдельные достижения отдельных наук.
Введенная
Обручевым в русскую фантастику тема далекого геологического прошлого нашей планеты и древнейших эпох цивилизации затем получила
развитие в творчестве
многих писателей. К произведениям, связанным так или иначе с этой темой,
относятся повести С. Глаголина «Загадка
Байкала» (1937) и Н. Плавильщикова «Недостающее звено» (1945), романы В. Владко
«Потомки скифов» (1938), В. Пальмана «Кратер Эршота» (1958) и в особенности
«Архипелаг исчезнувших островов» (1948) и «Страна семи трав» (1954) Л. Платова,
знакомящего читателей с архаической
культурой и бытом народа, находящегося
на стадии родового строя.
Авторы перечисленных книг, имея своим предшественником Обручева, выдвигают фантастические гипотезы, основанные на естественнонаучном, историко-этнографическом и географическом материале.
Несмотря на то что геолого-географическая тема занимает большое место и в творчестве Ефремова, академик Обручев сродни ему как геолог, но не как писатель и мыслитель. Ефремов избегает распространенных сюжетов и унаследованных приемов обоснования фантастических идей. Но главное отличие — в творческом методе. Уже в ранних рассказах, иногда излишне эмпирических и отчасти даже очерковых, намечается тяга Ефремова к широкому охвату явлений, к показу исканий и открытий на гранях разных наук.
Вот почему, говоря о традициях, сближающих его в какой-то степени с предшественниками, хочется вспомнить прежде всего таких «вперед смотрящих» ученых, как В. И. Вернадский и К. Э. Циолковский,
Академик Вернадский создал учение о биосфере и подготовил тем самым науку к пониманию жизни и космоса, а следовательно, и к освоению космоса.
К. Э. Циолковский развивал и популяризировал в фантастических произведениях волновавшие его научные идеи и гипотезы. Сюжетные очерки и повести на космические темы подкреплялись у него серьезной аргументацией («На Луне», «Грезы о Земле и небе», «Вне Земли» и др.). В 1929 году он высказал смелую мысль, получившую затем художественное воплощение в «Туманности Андромеды» Ефремова: «Каждая планета, — писал Циолковский, — с течением времени объединяется, устраняет все несовершенное, достигает высшего могущества и прекрасного общественного устройства... Объединяются также ближайшие группы солнц, млечные пути, эфирные острова».
Циолковский был наставником и вдохновителем многих литераторов, черпавших необходимые сведения из сокровищницы его трудов. Можно составить целый список фантастических романов, созданных под непосредственным влиянием «патриарха звездоплавания». Так или иначе, вся межпланетная тема в советской художественной и научно-популярной литературе развивалась под флагом его идей, мимо которых, конечно, не мог пройти и Ефремов, если даже у него и не было с Циолковским прямых творческих соприкосновений.
Ефремов стал писать, когда естественные науки посрамили «здравый смысл» и перешли за грани привычного и обыденного. В современной науке много парадоксального, она дает писателю неизмеримо больше возможностей для всяческих допущений, чем наука эпохи Жюля Верна и Курта Лассвица. Даже такой фантаст, как Уэллс, опирался либо на классическую физику и биологию, либо вовсе игнорировал науку.
Фантастику Ефремова породила философия современного естествознания. За каких-нибудь тридцать лет в науке произошел новый качественный перелом. Дальнейшее развитие теории относительности и квантовой механики, все более глубокое проникновение в мир атома и в строение живой клетки внесли существенные поправки в прежние представления о мироздании.
Еще в начале века стало ясно, что законы классической механики справедливы только для сравнительно малых скоростей.
Данные квантовой механики, теории относительности, новейших космогонических воззрений развивают и обогащают наши представления о материи и формах ее существования — движении, пространстве, времени, помогают выявить неисчерпаемость и противоречивость ее свойств.
Если до конца XIX века материя фактически сводилась и естествоиспытателями и философами к веществу, то теперь она предстает перед нами как вся объективная реальность, бесконечно многообразная в своих характеристиках, состояниях и проявлениях. В фундаменте здания материи — в неживой природе — ныне четко различаются такие основные виды материи, как вещество (его разновидности представлены различными химическими элементами) и поле (электромагнитное, гравитационное, мезонное). Их качественное различие не отменяет диалектического противоречивого единства и сложности взаимных превращений.
Ограниченное ранее рамками макромира, человечество распахнуло двери в «диковинные» области микромира и мегамира. Исследование поистине неисчерпаемых свойств «элементарных» частиц открывает перспективы овладения новыми источниками энергии (так называемая «аннигиляция» в результате взаимодействия частиц и соответствующих им античастиц). С этим, в частности, связано и одно из поразительных достижений науки — квантовая радиоэлектроника.
Академик Л. Арцимович на Всесоюзном совещании научных работников сказал: «Для любителей научной фантастики я хочу заметить, что игольчатые пучки атомных радиостанций представляют собой своеобразную реализацию идеи «гиперболоида инженера Гарина».
Одновременно познание микрокосмоса вооружает человека в его усилиях, направленных на проникновение в мир колоссальных небесных тел и их скоплений, в мир, где пространство искривлено чудовищной силы полями, где обнаруживаются пределы действия привычных нам законов, подобных закону тяготения. Развиваются принципиально новые представления о пространстве и времени, о сложности их свойств, обусловленных свойствами движущейся материи.
Все это бесконечно усложнило картину мира и в то же время дало возможность находить обходные пути и принципиально новые решения там, где наука, казалось бы, должна была упереться в глухую стену.
Наступает переворот во всех представлениях о Жизни и Вселенной. Необъятность и все возрастающая сложность познания природы и есть выражение качественно новой ступени в развитии современного естествознания.
— В наше время, — говорит Ефремов, — наука — это фантазия, доказавшая свои возможности. Соотношение науки и фантастики изменилось. Сама наука стала фантастичной. Но, вероятно, далеко не все ученые и писатели представляют себе всю необъятность накопленного человечеством научного опыта, всю широту фронта научных исследований и скорость их нарастания! В этом бесконечно многообразном хранилище исканий и размышлений человечества находятся истоки решительно всех научно-фантастических произведений, как написанных, так и еще не созданных.
Лишь малая часть замеченных явлений, фактов, намеков природы разрабатывается методически и планомерно. Гораздо большее их число пока лежит втуне, храня в себе возможности новых взлетов науки. Привлечение внимания к этим или еще не использованным, или забытым возможностям — одна из наиболее серьезных задач научно-фантастической литературы. Только в таком смысле — поисков в стороне от главных линий научных исследований — можно понимать «опережение» науки фантастикой.
Уже первые рассказы Ефремова, тесно связанные с геологической и палеонтологической практикой, показывали неиспользованные возможности проникновения в тайны природы, открывали неизведанные пути научных исканий. В дальнейшем диапазон его фантастики значительно расширился. Научно-техническая революция середины XX века и ее громадные, не вполне еще осознанные последствия объясняют тяготение писателя к универсальному охвату явлений, отраженных в познании природы и жизни общества на разных ступенях исторического развития.
Фантастика и дерзость современной науки нашли своего певца в лице Ефремова, утвердившего в научной фантастике новое художественное видение, новый творческий метод, объединяющий литературу и науку.
В произведениях Ефремова причудливо переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Немеркнущий светоч разума передает свою эстафету грядущим поколениям. Познающий разум так же неисчерпаем, как и природа. «Неотвратимая безудержность знания... все шире и дальше распространяется по беспредельным равнинам неизвестного, захватывая все большие массы людей». «Нет одиночества даже в самых смелых, еще не понятых миром, исканиях». Открытие, сделанное «не ко времени», не забудется, найденная истина не исчезнет. Человеческая культура — это сгусток идей, получивших материальное воплощение, это исполненная драматических коллизий история борьбы с природой и преодоления ее косных сил. Человек — высшее создание материи, и его мысль вечна, как материя. К этому сводится гуманистическая идейная основа творчества Ефремова.
И автор, и его герои находятся «в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе». Движимые «железными законами научного мышления», они отыскивают доказательства и восстанавливают недостающие звенья в цепи известных фактов, находят и объясняют новое, обгоняя тот уровень знаний, который определяется «наличным фактическим материалом».
Ефремов заставляет читателя почувствовать поэзию идеи. Он подчиняет ей и развитие сюжета, и характеры героев, и композицию всех своих произведений. Главное для него — столкновение мнений, преемственность идей, горение мысли, борение интеллекта с препятствиями.
В каком бы жанре и на какие бы темы ни писал Ефремов, ему одинаково присуще, по удачному определению Геннадия Гора, стремление к синтезу научного и художественного видения мира.[30]
Творчество
Ефремова показывает, какие безграничные возможности открывает в наше время наука для художественного воображения, как плодотворен
и благороден труд
писателя, посвятившего свою литературную деятельность теме научных исканий.
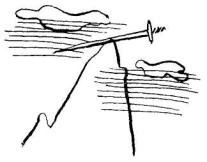 Глава третья
Глава третья
"Дорога
ветров". — Восприятие природы глазами ученого и художника. — Аналогии с живописью. — Своеобразие
художественного видения. — Стиль — это человек. — "Пять
румбов". — Чудесное в природе и в жизни. — Герои рассказов. — Романтика
познания. — Фантастические допуски. — Гипотезы, оказавшиеся реальностью.
— Как делаются открытия .— Автобиографичность рассказов. —
Морская тема. — История "Катти Сарк". — “Звездные
корабли". — Рождение открытия "на стыке" разных наук. — Гипотезы
о пришельцах из космоса.
Мы не раз уже упоминали «Дорогу ветров». Эта художественно-документальная очерковая книга, написанная на материале путевых дневников, которые велись Ефремовым в годы монгольских палеонтологических экспедиций, занимает в его творчестве промежуточное положение, находясь как бы «на стыке» науки и литературы. Пожалуй, никакое другое произведение не раскрывает в такой непосредственной форме его духовный облик и писательскую манеру. Вот почему, в отступление от хронологического принципа, мы решили остановиться на «Дороге ветров» именно в этой главе.
Автор предупреждает в предисловии, что в его гобийских заметках нет ни одного слова выдумки и никаких художественных преувеличений. «Если после прочтения настоящей книги у читателя... возникнут перед глазами картины, рисующие черные пустыни Заалтайской Гоби, если читатель услышит шелест дериса на большой караванной тропе и если перед ним оживут торчащие из обрывов белые кости вымерших животных, — тогда цель моей книги можно считать достигнутой».
Ефремов достигает своей цели. В «Дороге ветров» он не только знакомит читателей с достижениями советской палеонтологической науки, но как художник рисует одну из самых необычных географических областей мира.
Повествовательные отрывки здесь свободно чередуются с научными экскурсами, пейзажные зарисовки с этнографическими этюдами, бытовые эпизоды с размышлениями на разные темы, поводы для которых возникают на каждом шагу. Непритязательные, порою шероховатые описания последовательного хода работ, палеонтологических открытий и почти непрерывных передвижений экспедиции по гобийским степям и пустыням — таков сюжетный стержень произведения. Героями его становятся участники экспедиции, проявившие в трудных условиях незаурядное мужество и настойчивость, но прежде всего — сам автор, пытливый и наблюдательный натуралист, путешественник, географ, охотник, писатель. О себе он говорит мало и скупо, но его многогранная личность и свойственное ему как ученому и художнику видение мира раскрываются не столько в языке и стиле, сколько в самом содержании, емком и концентрированном, в отношении писателя к природе, в способах подачи и интерпретации материала, взятого не из вторых рук, а из богатейшего запаса собственных наблюдений.
Природа предстает перед естествоиспытателем в своей первобытной силе, в многообразии сменяющихся пейзажей, неповторимых цветовых оттенков, едва уловимых звуков и запахов, рождающих тысячи ассоциаций. Красота и величие природы пробуждают эстетические чувства и вместе с тем — страстное желание проникнуть в ее вековые тайны. Неохотно уступая их человеку, она покоряется только упорным и одержимым искателям. Чем больше исхожено километров, облазано обрывистых круч, изъезжено по бездорожью и диким пустошам, тем больше радости доставит законченная работа...
Должно быть, есть какая-то закономерность в том, что среди писателей, пришедших в литературу от науки — со своей специфической темой и запасом жизненных наблюдений, нередко можно встретить геологов, географов, палеонтологов, археологов, этнографов — людей, которым приходится проводить много времени в полевых условиях, в необжитых местах и подчас в экзотической обстановке, путешествовать, исследовать, охотиться, изощрять свою зрительную память.
Чуть ли не на каждой странице возникают чередующиеся зрительные образы, поражающие обилием цветовых оттенков. Воспринимаются эти образы в непрерывном движении, в постоянной смене «кадров». Одну картину видит наблюдатель, когда стоит на месте, и совсем иное впечатление создается, когда он фиксирует меняющиеся пейзажи, находясь в кабине грузовика.
В каждом уголке природы Ефремов находит неповторимое своеобразие и какую-то особую прелесть. Гобийская степь во все времена года и часы суток открывает перед ним великое множество интереснейших и порою загадочных явлений. Натренированный глаз подмечает разнообразие рельефа и красок на каждом участке длинного пути.
Прозрачный воздух ранним утром, когда пространство словно раздвигается и пустыня кажется беспредельно просторной; днем запыленное небо застилает кругозор, и восходящие токи воздуха, прогретые жгучим солнцем, скрадывают резкость контуров и создают причудливые миражи; в зыбком мареве вдруг возникает целый город с башнями, бойницами, куполами и арками, и только сильный бинокль убеждает в обмане зрения; а вечером, когда солнце садится за невидимый горизонт, исследователь любуется небывалыми переливами красок.
«Хребты утопали в глубокой фиолетовой дымке, а их нижние уступы отсвечивали над темной долиной чистым червонным золотом. Золотые краски поднимались все выше, и наконец оба хребта сделались отлитыми из золота. Только восточные концы гор остались фиолетовыми — еще темнее и мрачнее от контраста. Из-за холмов бэля[31] с запада взвились в высоту алые языки огня — так окрасились вертикальные космы и столбы туч. Огненная завеса стояла до тех пор, пока от подножия хребтов не поднялась фиолетовая мгла. Только вершины еще золотились. Цвет золота был необыкновенно ярок и чист. Три краски обрисовывали все окружающее — золотая, синяя и фиолетовая. Наконец все угасло и наступили сумерки».
Удивителен и рассвет в Гобийской пустыне: «На западе от песков поднимались косые столбы отраженного мутного света. Мохнатые серые облака, драными клочьями свисавшие вниз, были освещены красным огнем зари. Налево виднелась необычайно крутая бледная радуга углом, а не дугой, как обычно. Подобной радуги я не видел никогда за все свои скитания и не слыхал о таком явлении».
Читая «Дорогу ветров», вспоминаешь гималайские пейзажи Николая Рериха, которые неискушенному зрителю кажутся совершенно фантастическими. Эти полотна Рериха, при всей их внешней декоративности, в основе своей столь же реалистичны, как и описания природы, сделанные Ефремовым в относительно сходных географических условиях.
Аналогии с живописью иногда возникают и у самого автора.
«Так чудесно выглядели блестящие лиловые утесы и полосы, рассекавшие рыхлую и желтую поверхность песков, что я в пятисотый раз пожалел о цветной фотографии. Впрочем, и фотография оказалась бы бессильной перед величием, чистотой и тонкими переходами гобийских красок — нужен был художник...»
Когда Ефремов писал «Дорогу ветров», гималайские пейзажи Рериха у нас еще не были известны. Упоминает он других художников, тоже предпочитавших неразмытые броские тона. Чтобы дать представление о живописной поверхности горного склона, усеянного разноцветной галькой, походившей на пеструю, грубую мозаику или на россыпь пасхальных яиц, писатель вспоминает картины Билибина и Кустодиева в старорусском стиле. «Так и хотелось, — добавляет он, — увидеть богатыря или сказочную царевну на этом ярком праздничном ковре».
Ефремов — талантливый художник природы, владеющий искусством «словесной живописи». Вместе с тем он всегда остается и ученым. Он не только любуется великолепным пейзажем, но и смотрит на него глазами геолога, не только описывает, но и анализирует увиденное. Отсюда рождается совершенно особый стиль художественно-документального повествования, свободный и непринужденный, не скованный одной сравнительно узкой темой, которая держит в плену автора обычной научно-популярной книги. Ефремов легко переходит с предмета на предмет, потому что любое явление может вызвать самые неожиданные ассоциации и увести мысль в сторону.
Лунная ночь в гобийской степи, когда в абсолютной тишине и неверном свете все представляется причудливым и таинственным, вдруг наводит ученого на размышления о том, «как окружающая обстановка, отражаясь в мозгу человека, вызывает в нем строго определенные представления».
Езда по хорошо знакомой дороге навевает совсем другие мысли, и таким образом вводится очень интересный экскурс о свежести первого впечатления и притупленности внимания, когда ту же самую картину человек наблюдает в третий или в четвертый раз. «Подобная утомляемость восприятия должна обязательно учитываться при обучении или анализе творчества ученого или художника», — заключает автор.
Гобийская степь обладает способностью делать серое синим. Это наблюдение помогает ему объяснить, почему лошадь светло-серой масти называется у монголов «хуху-морь» (голубой конь).
У гор Дулан-Хара, как ни в каком другом месте, исследователи испытали такое сильное действие слепящего света, что у всех заболели глаза. Почему это происходит? Ефремов затрудняется найти объяснение, но не забывает заметить: «Эта загадка, как и многие другие оптические явления в Гоби, осталась неразрешимой для нас и ждет еще своих исследователей».
«Полифонический» стиль «Гобийских заметок» проявляется во всем. Часто художник отдает свое перо ученому, и «словесную живопись» вытесняет обычная деловая проза. Но Ефремов всегда остается самим собой. Он старается понять и объяснить любое зафиксированное наблюдение.
«Весь бэль на протяжении многих километров был изрыт норами тарбаганов, настолько большими, что они представляли опасность для колес машины. Пронин был убежден, что здесь живут медведи, а не тарбаганы, но я разуверил его. Ни медведи, ни лисы, ни другие хищники не могли бы жить такими скоплениями — иначе им осталось бы только пожрать друг друга».
«Сплошные
покровы и потоки базальтов расстилались на десятки километров. Нагретый воздух клубился на их черной поверхности, и фотографические
снимки у нас не получились».
Эти взятые наудачу отрывки типичны для Ефремова. Дело тут не просто в наблюдательности, а в самом складе мышления. Рассуждать не объясняя, не доискиваясь до причины Ефремов не может. Это свойственно ему органически. Каждое явление познается им не в статике, а в динамике, частные наблюдения и выводы подчиняются диалектико-материалистическому мировосприятию. Не довольствуясь простой констатацией факта, он всегда старается ответить на вопрос «почему?».
По ходу действия возникают десятки неожиданных вопросов и не менее неожиданных ответов. Почему дикие лошади всегда стремятся перебежать дорогу машине? Почему монголы не держат кошек? Почему при ночной езде по ровной дороге кажется, что автомобиль идет все время под уклон? Почему каждый арат легко узнает своих верблюдов, лошадей или овец в тысячном стаде? Почему вымерший морской ящер — ихтиозавр и современный дельфин обладают почти одинаковой формой тела, хотя их внутренние органы очень сильно разнятся? Почему у оленей белые «зеркала» на заду? Почему у яков пушистые лошадиные хвосты? И т.д. и т.п.
Нельзя не обратить внимание и на языковые средства Ефремова. От связи писателя с наукой идут поиски наиболее точных формулировок и непрерывное обогащение словарного запаса, от профессии геолога и палеонтолога — хорошее знание природы и безошибочное чувство пейзажа. Но при этом высокоинтеллектуальное философское начало в его творчестве нередко вступает в противоречие с традиционным, подчас несколько старомодным стилем изложения, скорее приспособленным для передачи внешних событий, чем для постижения той необыкновенной и прекрасной действительности, которую он воссоздает.
Заботит Ефремова в первую очередь сама мысль, а не одежда мысли, важнее ему что сказать, а не как сказать. Для нового и вполне оригинального содержания он далеко не всегда находит адекватную художественную форму. Но язык его произведений, иногда излишне усложненный и трудный для восприятия, неизменно щедр и богат. В зависимости от темы, места и времени действия писатель захватывает всё новые и новые лексические слои. Обиходная бытовая речь соединяется с профессиональными и научно-техническими терминами, обычный литературный язык — с диалектизмами и местными речениями, позволяющими наиболее точно и полно выразить определенную мысль или закрепить зрительный образ.
В «Дороге ветров» многочисленные монгольские выражения и географические названия, а также пословицы, поговорки и загадки, взятые в качестве эпиграфов, усиливают этнографический колорит повествования. Конечно, такое обилие научных терминов, географических названий и технических выражений заметно утяжеляет изложение и снижает эмоциональное воздействие художественного образа. Но такова уж особенность писательской манеры Ефремова, требующего от читателя неослабного внимания и сосредоточенности.
«Дорога ветров» — книга глубоко поучительная и — и хорошем смысле этого слова — концепционная. Она не только прививает навыки научного мышления и материалистические представления о мире, но и проникнута поэзией науки, романтикой исследовательской деятельности. Это пока единственная большая работа Ефремова, относящаяся к научно-художественному повествовательному жанру. Но своеобразие писательской манеры проступает здесь не менее отчетливо, чем в научно-фантастических произведениях. Особенно это чувствуется при сопоставлении «Дороги ветров» с «Рассказами о необыкновенном», в основу которых положен жизненный опыт и научные размышления палеонтолога и геолога.
Первая книга рассказов Ефремова «Пять румбов» по композиции напоминает старинные сборники новелл. Введение к циклу, реплики рассказчиков и заключительные слова автора, якобы записавшего услышанные истории, образуют традиционное «обрамление».
В тревожную военную ночь, после очередного налета фашистской авиации, в Москве, на Калужской улице у капитана дальнего плавания собираются его давние приятели, приехавшие в столицу с разных концов Союза за новыми назначениями. Все они бывалые люди, «по разным румбам в жизни курс прокладывали». Хозяин просит гостей остаться у него до утра и предлагает поделиться воспоминаниями — «рассказать, что кому встретилось в жизни интересного и необычного».
Но уже во второй книге — «Встреча над Тускаророй», вышедшей в том же 1944 году, Ефремов отказался от этого условного, «декамероновского» приема. Да он и с самого начала был ненужен: внутреннее единство в сборнике и без того создается общностью темы и настроения.

И. Ефремов – начальник Гобийской экспедиции. 1949
В «Рассказах о необыкновенном» сюжет обычно вытекает из научной загадки, казуса, ждущего объяснения. Ученый сталкивается с удивительным явлением природы. Для решения сложной проблемы мобилизуются самые разнообразные средства, привлекаются сведения из нескольких областей знания. Исследователь сопоставляет разрозненные факты, строит неожиданные предположения, демонстрируя не только силу логики, но и незаурядную способность к ассоциативному мышлению. В конечном счете победу торжествует аналитический ум ученого.
Почти все рассказы основаны на фантастических допусках. Но есть и такие, в которых развитие действия обусловлено не фантастической гипотезой, а необыкновенными результатами созидательной деятельности людей, необыкновенными проявлениями воли и мужества, энергии и находчивости.
Разве не чудо — создание «Катти Сарк», быстроходного клипера, воплотившего в себе трудовой опыт многих поколений кораблестроителей и не утратившего после всех испытаний, которые выпали на его долю, безукоризненных навигационных качеств?
«Катти Сарк» — морской рассказ, в нем нет никакой фантастики, но это — тоже рассказ о необыкновенном.
Легко понять, почему в этот цикл включены и такие нефантастические рассказы, как «Последний марсель», «Белый Рог», «Путями старых горняков».
Шестеро советских моряков, спасшихся на плоту с потопленного фашистской авиацией судна и прибитых течением к берегам Норвегии, ускользают от немцев на старой, разбитой бригантине, осваивают на ходу «парусную науку», выдерживают борьбу с жестокими штормами и под одним парусом — «последним марселем» — достигают английских вод.
Благодаря чудовищному напряжению физических и нравственных сил геолог Усольцев совершает невозможное — поднимается на недоступный отвесный пик Ак-Мюнгуз («Белый Рог»).
Девяностолетний штейгер Корнил Поленов, без всяких геодезических инструментов, полагаясь только на свою острую память и поразительную интуицию, безошибочно проводит горного инженера Канина по лабиринту заброшенных подземных выработок («Путями старых горняков»).
Именно в таких рассказах, менее характерных для всего цикла, уже намечаются возможности творческой эволюции Ефремова.
В статье «На пути к роману «Туманность Андромеды» он говорит по этому поводу следующее: «В первых рассказах меня занимали только сами научные гипотезы, положенные в их основу, и динамика, действие, приключения. Я с детства интересовался приключенческими произведениями, и когда сам занялся литературой, то считал, что в своих рассказах основным должен сделать действие, динамику и фон, достаточно экзотический, отобранный из окружающей нас природы в каких-то редких, случайных комбинациях (у меня, как ученого и путешественника, были для этого богатые возможности). В первых рассказах главный упор делался на необыкновенном в природе, сам же человек казался мне вполне обыкновенным. Пожалуй, только в некоторых из них — как «Катти Сарк», «Путями старых горняков» — я заинтересовался необыкновенным человеческим умением. Именно эта линия получила свое дальнейшее развитие в романе «На краю Ойкумены», где я впервые обратился к сложной для меня фигуре художника-эллина, а затем в «Звездных кораблях», в которых вплотную затрагивались вопросы творческого труда ученого и пришлось более серьезно размышлять над психологией, внутренним миром героев».[32]
В «Рассказах о необыкновенном» люди вступают в борьбу с природой, чтобы овладеть ее вековыми тайнами. Человек интересен не сам по себе, а лишь как «двигатель» научного замысла. Несокрушимое упорство и целеустремленность отличают всех героев независимо от того, какую задачу ставит перед ними автор. В одних случаях, как правильно определил критик Б. Евгеньев, человек сталкивается с чудесным в природе и после ряда усилий объясняет чудесное с помощью науки, в других — человек стремится к определенной цели и достигает ее, преодолевая ряд препятствий.[33]
Отсюда и романтическая тональность рассказов, написанных «на стыке» приключений и фантастики.
Необыкновенное в природе и в жизни доступно только людям ищущим, смелым, способным выдержать любые испытания и трудности. Тайное становится явным, если человек сам стремится навстречу неизвестному, если он принадлежит к породе мечтателей, претворяющих мечту в действие.
«Необыкновенное, встреченное почти каждым из вас, — обращается к своим друзьям геолог Балабин, — как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... и, кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу» («Голец Подлунный»).
Словами Балабина автор выразил, конечно, свое собственное мироощущение. Мечта о необыкновенном заставила голодного подростка в осажденном Херсоне, под обстрелом, зачитываться романами Хаггарда. Мечта о необыкновенном юношу в солдатской шинели привела в науку. Мечта о необыкновенном сделала признанного ученого писателем-фантастом.
Окружающая героев Ефремова романтическая атмосфера тайн и неожиданностей отвечает внутренним склонностям этих неутомимых искателей, их отношению к жизни, их восприятию природы. Они любят приключения, но им чужд безрассудный авантюризм, они проникают в непроходимые дебри, в труднодоступные или почти неисследованные области, но в этом нет ничего общего с экзотикой старой приключенческой литературы.
Автор не ставит своих героев на котурны, не наделяет их какими-то сверхчеловеческими качествами. Это — наши современники, советские моряки и ученые, проявляющие в трудных условиях незаурядную выдержку и отвагу.
Чтобы решить поставленную задачу, герой должен быть наблюдательным, сведущим, умелым, энергичным, находчивым, а все, что относится к его «частной жизни», в данном случае значения не имеет. Более того, когда он изымается из привычной для него обстановки или начинает проявлять «посторонние» чувства, то сразу делается заурядным, а повествование блекнет. Вне природы герой Ефремова «не играет».
Все определяется отношением человека к природе и его поведением в необычных условиях. Он активно действует в тайге, пустыне или на палубе корабля. Но стоит ему вступить в круг обыденных человеческих чувств и эмоций — задуматься, загрустить или влюбиться, как писатель сразу же попадает во власть литературных канонов.
Так, например, очень интересный и хорошо написанный рассказ «Встреча над Тускаророй» испорчен введением довольно банального эпизода в портовой таверне Кейптауна. Да и сама развязка кажется искусственной и надуманной, и певица Энн Джессельтон словно сошла со страниц далеко не лучшей повести Александра Грина. Впрочем, и другие женские образы — их в рассказах немного, и все они второстепенные — не вносят живых красок.
Столкновения характеров и социальные конфликты из «Рассказов о необыкновенном» почти полностью исключены. Конфликты здесь возникают на иной основе. Развитие сюжета в таком виде, как он дан Ефремовым, и не требует глубокого проникновения во внутренний мир героев. Все они похожи друг на друга и как бы переходят из рассказа в рассказ, меняя имя, но с теми же неизменными типологическими свойствами. В самом деле, трудно определить, чем отличается палеонтолог Никитин от инженера Ганешина, геолог Усольцев от геолога Чурилина, Султанов от Балабина...
Герой Ефремова — человек мысли и действия — образ в значительной степени автобиографический, во всяком случае психологически близкий автору, можно сказать, его alter ego. Отсутствие индивидуальных характеров и некоторое однообразие художественных приемов ощущается как недостаток не в каждом отдельном произведении, а в совокупности, когда читаешь их подряд.
Если бы Ефремов не пошел дальше и не обратился к человеку как творческой индивидуальности, его художественное развитие могло приостановиться раньше, чем исчерпался бы запас сюжетов. Но, к счастью, этого не случилось, так как он вовремя понял, какая опасность его подстерегала.
«Читая переводную фантастику, — пишет Ефремов, — я, как в кривом зеркале, увидел собственные свои просчеты, убедился на наглядных примерах, чем грозит писателю отказ от изображения характеров, уход в «чистую сюжетику». Фантастика превращается в таком случае в бездумное развлекательство».[34]
Правда, применительно к самому Ефремову в этих словах есть большая доля преувеличения. Он с самого начала строил сюжеты необычные, в которых авантюрному элементу отводилась не столь уж большая роль.
В «Рассказах о необыкновенном» акцент переносится с романтики приключений на романтику творческого труда, и это меняет не только традиционную форму приключенческого повествования, но и наполняет его новым содержанием. Обычную интригу вытесняет научный и логический анализ, действие развертывается в замедленном темпе, но сюжет от этого не теряет своей остроты. И даже больше того. Обычный в научно-фантастических книгах приключенческий сюжет часто заменяется у него приключениями мысли — от зарождения гипотезы до ее превращения в теорию, подкрепленную многочисленными доказательствами. Поэтому авантюрная сторона повествования ослабевает или вовсе сходит на нет.
В таких вещах, как «Тень минувшего» или «Звездные корабли», развитие действия определяется не приключениями ученого во внешнем мире, а его исследовательской работой, поисками доказательств, необходимых для подтверждения удивительной гипотезы. Это приводит к тому, что научная идея подчиняет себе все компоненты произведения и любование работой ума становится как бы элементом поэтики.
И это создает такое внутреннее напряжение, что читатель может не обратить внимания на художественные промахи автора: маловыразительные и однозначные по интонации диалоги, тяжелые, порою неуклюжие фразы, затянутые эпизоды и т. п.
Вообще в ранних рассказах Ефремова часто дает себя знать его литературная неопытность, несмотря на то что он с самого начала выступил как самобытный и вполне сложившийся писатель. Некоторые рассказы грешат иллюстративностью («Олгой-хорхой») или мало удачны по выполнению («Последний марсель»). Встречаются и композиционные просчеты. «Тень минувшего», благодаря повторным описаниям световых отпечатков древних ландшафтов, кажется растянутой.
Но эти частные недостатки не заслоняют главного: в «Рассказах о необыкновенном» рождается совершенно новая романтика, романтика познания, которую Ефремов утверждает всем пафосом своего творчества.
«Я уверен, — пишет он в авторском эпиграфе к сборнику рассказов «Белый Рог» (1945), — сильно ошибаются те, кто полагают, что романтике не будет места на нашей планете, измеренной вдоль и поперек. Огромный, бесконечно просторный мир творческого исследования окружает нас. Стоит лишь заглянуть в него, чтобы убедиться, как смешны рассуждения о скуке жизни. Всестороннее познание природы и творческий труд — крылья человеческого духа...».
Ефремов-фантаст не боится заведомых преувеличений, но как ученый, черпающий материал из хорошо знакомой ему области, убедительно их обосновывает. Поэтому в его «допусках» нет ничего антинаучного.
Герои сталкиваются всякий раз с такими удивительными явлениями и загадками природы, каких может и не быть в действительности, но в то же время читателю легко поверить, что при некоторых условиях или каком-то особом стечении обстоятельств изображенные события и в самом деле могли бы произойти, необыкновенные явления и в самом деле могли бы наблюдаться.
В горах Алтая нет описанного Ефремовым ртутного озера, — в природе это большая редкость. Однако — уже после опубликования рассказа — там действительно было найдено несколько мелких и одно значительное месторождение ртути. Правда, геологи обнаружили ее не таким необычным способом, как герой рассказа, но высказанное автором предположение оказалось правильным («Озеро Горных Духов»).
Может ли вода в глубинах Тускароры иметь животворную силу? Океанские впадины почти совсем не изучены, и неизвестно еще, какими физическими и химическими свойствами обладают древнейшие минералы и газы, сохранившиеся, по всей вероятности, на большой глубине («Встреча над Тускаророй»).
Легендарное «дерево жизни», которое часто упоминается в средневековых источниках, заново открыто в нашем веке, и наверняка где-нибудь еще сохранились реликтовые растения, способные оказывать исцеляющее действие на организм. А сказочные волшебные напитки и чудесные зелья!.. Разумеется, это фантазия. Но не навеяна ли она какими-нибудь утраченными секретами древней медицины? («Бухта радужных струй»).
В Узбекистане нет развалин обсерватории Нур-и-Дешт, и приписываемые сердоликам тонизирующие свойства, по-видимому, сильно преувеличены, но «кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на нас будет понято еще более глубоко, и кто поручится, что на нас не влияют еще многие другие излучения— ну хотя бы космические лучи» («Обсерватория Нур-и-Дешт»).
В барханах Шарын-Гоби никто не видел гигантских смертоносных червей. Но не подтвердится ли со временем и эта народная легенда, как уже подтвердились «россказни» африканских охотников о существовании в дебрях тропических лесов каких-то причудливых животных, похожих на крылатых ящеров, давно исчезнувших с лица земли? Ведь и выловленная в Индийском океане живая кистеперая рыба явилась на свет, как химера, из тьмы миллионолетий! ( «Олгой-хорхой»).
В издательском предисловии к первому сборнику Ефремова можно прочесть, что открытие в центре Сибири пещеры с наскальными изображениями древних зверей тропических широт — чистейший авторский вымысел. Рассказ «Голец Подлунный» считался до недавнего времени совершенно фантастическим. Но вот в Каповой пещере на реке Белой были найдены рисунки первобытного человека — изображения слонов, саблезубых тигров и т.п., — почти дословно подтвердившие гипотезу писателя. Правда, мы еще не знаем, до каких мест докатилась волна миграций с Черного материка и где находился до эпохи великого оледенения крайний северный форпост древних народов Африки, переселявшихся в Азию вслед за животными. Вполне возможно, что дальнейшие исследования отодвинут этот форпост еще дальше к северу, и тогда научный прогноз Ефремова окажется еще более точным.
«По строгим научным законам, — говорится в послесловии к рассказу «Тень минувшего», — ничто не дает права утверждать, что снимки прошлого, подобные описанным в рассказе, действительно существуют. Это не более как вольный вымысел автора. Но в то же время нельзя поручиться, что какие-нибудь отпечатки картин минувшего не сохраняются в действительности в огромных массах осадочных горных пород. Пусть это будут не световые отпечатки, не воспринимаемые непосредственным зрением снимки, а «письмена» какого-нибудь другого характера, по которым, как и по окаменелостям, мы можем восстанавливать облик древней природы. Мы их еще не знаем, потому что не ищем, не подозреваем об их существовании».[35]
Каждая такая гипотеза соотносится с реальными данными науки, намечает перспективу для новых поисков, дает работу мысли, действует на воображение, вводит в мир творческого исследования.
Научную фантастику принято считать литературой научных предвидений. Многие, ссылаясь на Жюля Верна, полагают, что писатель-фантаст непременно должен предугадывать будущие открытия или изобретения. Действительно, современники называли Жюля Верна «изобретателем без мастерской», забывая о том, что он не «изобрел ни одной машины, которой не существовало бы до него в зародышевом виде. Некоторые из его проектов блестяще претворились в жизнь, хотя и не в таком виде, как они были задуманы писателем. Он обычно был прав только в общей концепции, но не в избрании метода осуществления замысла, и неизбежно допускал ошибки, когда переходил к детальным описаниям. Ну а как же быть тогда с Уэллсом и другими писателями, которые ставят перед собой совсем иные творческие задачи? Ведь художественная гипотеза имеет право на существование независимо от ее практической целесообразности.
Некоторые предположения, высказанные Ефремовым, полностью подтвердились. Но если бы он ограничился только иллюстрированием сравнительно узкой технической или научной проблемы, его рассказы не выдержали бы проверки временем и давно уже были бы забыты. Этого не случилось, потому что их содержание несравненно шире и богаче.
Подводный телевизор капитана Ганешина («Атолл Факаофо») совсем нетрудно было предусмотреть в 1944 году, когда появился рассказ.[36] Опыты в этом направлении уже велись, и подобная тема не была новостью в научной фантастике. А сейчас подводное телевидение вошло в практику, и рассказ подавно перестал был фантастическим. Однако он не потерял от этого своей художественной прелести, по-прежнему читается и переиздается. Следовательно, дело здесь не в одном только подводном телевизоре.
Рассказ «Адское пламя», лежавший несколько лет в рукописи, был опубликован в то время, когда в Соединенных Штатах Америки уже проектировались испытания баллистических ракет с атомным зарядом. Вымысел здесь граничит с жестокой жизненной правдой. И ценность этого рассказа, конечно, не в научной достоверности изображения еще не существовавшего тогда вида оружия, а в общей гуманной направленности, в антивоенном пафосе.
И даже в рассказах «Голец Подлунный» и «Алмазная труба», которые могут служить блестящим примером подтвержденной жизнью фантастической гипотезы, заслуга автора отнюдь не сводится к точному научному прогнозу.
Герои рассказа «Алмазная труба» находят в Якутии крупное месторождение алмазов задолго до того, как оно было открыто в действительности.
«Для меня было совершенно ясно, — рассказывает Ефремов о происхождении замысла, — что структуры Южно-Африканского и Средне-Сибирского плоскогорий одинаковы, что даже геологические разломы земной коры у них одного и того же характера. Следственно, если там — в Южной Африке — есть кимберлитовые трубки, то они есть (должны быть) и у нас, в Сибири. Но доказать всего этого я, разумеется, не мог. Я просто был убежден в этом и как геолог-исследователь, не раз бродивший в тех местах, и как геолог-теоретик. Я и попытался изложить все это в одном из первых своих рассказов, в котором геологи находят на севере Сибири богатое месторождение алмазов. Рассказ полюбился геологам. Некоторые из них потом признавались мне, что носили книжку в своих полевых сумках, заразившись самой ее идеей.
![]() Через несколько лет ко мне пришел один
приятель-геолог и положил на мой письменный стол (за ним и была написана
«Алмазная труба») несколько алмазов, найденных почти при тех же
обстоятельствах, которые упоминаются мной».[37]
Через несколько лет ко мне пришел один
приятель-геолог и положил на мой письменный стол (за ним и была написана
«Алмазная труба») несколько алмазов, найденных почти при тех же
обстоятельствах, которые упоминаются мной».[37]
«Алмазная труба» — один из лучших рассказов Ефремова. Он полон прекрасных описаний природы, овеян суровой героикой борьбы человека с почти непреодолимыми препятствиями во имя высокой цели. И читатель, хорошо зная о том, что якутские алмазные промыслы имеют сейчас мировое значение, с волнением следит за всеми перипетиями мучительного похода двух геологов, сделавших изумительное открытие. Трудно отказаться от мысли, что якутские алмазы в действительности были найдены не героями Ефремова, Чурилиным и Султановым, а другими людьми!
И в этом случае подтверждение фантастической гипотезы не отразилось на жизни произведения. Напротив, его популярность еще больше возросла! И так бывает всегда, когда имеешь дело с явлением подлинного искусства, а не с ремесленной поделкой, не идущей дальше узкопрофессиональных интересов.
В традициях научно-фантастической литературы — изображать желаемое как уже осуществленное, «не замечать» тех препятствий и трудностей, с которыми неизбежно пришлось бы столкнуться ученому в процессе работы. Удивительная машина, необыкновенное открытие чаще всего предстают в уже готовом, законченном виде.
Вспомним произведения классиков фантастического жанра. Жюль Верн не ставил своей целью показать, как создавался «Наутилус», каким образом капитану Немо удалось разработать проект идеального подводного судна и воплотить свою мечту в жизнь. Допущение уже готового «Наутилуса» или Машины времени в романе Уэллса служит исходным моментом, с которого и начинается действие. Писателя интересует в данном случае не тернистый путь исканий, а те возможности, которые сулило бы исполнение дерзновенного замысла. В мировой научной фантастике это — самый испытанный и распространенный прием.
Но есть и другие способы построения фантастического сюжета. Если конечный результат работы ученого служит в произведении не исходным, а завершающим этапом действия, то упор будет перенесен на историю самого открытия.
Именно об этом говорил М. Горький в известной статье «О темах»:
«Прежде всего — и еще раз! — наша книга о достижениях науки и техники должна давать не только конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенно преодоление трудностей и поиски верного метода.
Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции».[38]
Пожелания Горького обращены, правда, к авторам научно-популярных книг, но
подсказывают художественные решения и писателям-фантастам, когда те обращаются
к
изображению самого процесса творческой работы ученого. После Отечественной
войны в советской научной фантастике получила распространение едва только
наметившаяся в тридцатых годах тема грядущих научно-технических преобразований,
переделки природы и климата на обширных пространствах нашей страны. Многие
авторы стремятся показать «судьбу открытия», развитие научно-технической идеи
от зарождения замысла до триумфа коллектива ученых и строителей в новых
общественных условиях (романы Г. Адамова, А. Казанцева, Н. Лукина, Г. Гуревича
и др.).
Рассказы Ефремова, при всем их своеобразии, несомненно, близки этому
направлению научно-фантастической и художественно-познавательной литературы. Он
не только
вводит читателей в процесс исследовательской работы, но и показывает, как
делаются открытия людьми, вооруженными диалектикой познания материального мира.
Научное творчество в «Рассказах о необыкновенном» раскрывается как бы изнутри, не во внешних проявлениях, а в повседневном упорном труде, требующем от естествоиспытателя предельного напряжения духовных и физических сил. Автор выбирает для своих героев самый трудный и неожиданный путь исканий, соединяющий в себе и кропотливое добывание фактов, и строгий логический анализ, и молниеносное «озарение», когда ученому в нужный момент помогает интуиция.
От возникновения вопроса до ответа на него проходит много лет, иногда даже несколько столетий. Решению проблемы способствуют подчас люди разных поколений и национальностей, разделенные большими расстояниями и огромными промежутками времени. Материал для исследования доставляют, иногда даже не подозревая об этом, представители разных и очень далеких профессий.
Отсюда естественно вытекает идея преемственности, одна из самых плодотворных идей в творчестве Ефремова. Достижения культуры прошлого, забытые и заново обнаруженные, нередко наталкивают на интересные открытия. В дальнейшем великая преемственность народного опыта, научных идей и традиций будет расширяться и обогащаться в книгах Ефремова до такой степени, что достигнет уже масштабов мировой истории и больше того — масштабов бесконечной Вселенной.
...Недобрая слава идет о горном озере, затерявшемся где-то в Центральном Алтае. Местные жители называют его «Дены-Дерь» — «озеро Горных Духов». «Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже травы». Отважные охотники пытались приблизиться к этому мрачному месту, но каждого, кому удавалось туда проникнуть, губили какие-то злые силы.
Ойротский художник Чоросов, с детства знавший эту легенду, решил во что бы то ни стало увидеть Дены-Дерь. С огромными трудностями он добрался до озера, ощущая странное жжение во рту, сильную слабость и головную боль. Художник, правда, не умер, но долго потом болел. Сделанный им на берегу озера этюд послужил мотивом для картины «Дены-Дерь».
Это было в 1909 году. Спустя двадцать лет с Чоросовым случайно познакомился геолог, от имени которого и ведется рассказ. Среди множества эскизов и законченных работ, вывешенных в мастерской художника, он обратил внимание на небольшое полотно «Дены-Дерь». Пейзаж горного озера запомнился ему во всех подробностях:
«Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога[39] — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...»
Краски в левом углу картины показались геологу «совсем невозможными». Чем внимательнее он смотрел на полотно, тем больше всплывало деталей и тем сильнее изумляла его тонкая работа художника.
«У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдинами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры, столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту».
На вопрос, заданный художнику, как объяснить красные огни в скалах, сине-зеленые столбы и светящиеся облака, тот ответил: «Объяснение простое — горные духи... Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я — картину сделал, а ноги еле унес».
Расспросив Чоросова, как отыскать озеро Горных Духов, геолог записал его указания, не подозревая, какое они будут впоследствии иметь значение. На прощанье старый художник пообещал ему подарить этюд, сделанный на озере: «Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно».
Прошло еще несколько лет. Геологу было поручено заняться исследованием ртутных месторождений Сефидкана в Средней Азии. Однажды, когда он рассматривал под микроскопом шлифы ртутной руды, прибыла посылка, которая больше огорчила, чем обрадовала его, — этюд к картине «Дены-Дерь» — «как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь».
«Озеро Горных Духов, — рассказывает далее геолог, — продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды... Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом».
Читатель, заинтересованный загадочным пейзажем, с нетерпением ждет развязки, которая не обманывает его ожиданий. Тайна горного озера раскрывается в самых последних строках. Геологическая экспедиция подтвердила правильность неожиданно возникшей гипотезы: там действительно оказалось редчайшее в природе месторождение жидкого металла.
И происхождение легенды, и необычный колорит картины, и клинические признаки отравления ртутными парами, и мертвая зона вокруг озера — все получает в конце концов достоверное объяснение. Но самое примечательное в этом рассказе — прихотливый путь открытия: народная легенда воздействует на воображение ойротского художника, а его картина, в свою очередь, наталкивает геолога на поиски, приведшие к поразительному результату. Загадка природы выясняется, таким образом, с помощью нескольких взаимодействующих факторов, почти не соприкасающихся в обыденной жизни. Неожиданное столкновение фольклора, живописи, медицины и минералогии приводит к геологическому открытию.
В «Озере Горных Духов» выразительные картины природы, конечно, создают настроение, делают рассказ эмоциональным и поэтичным. Но значение пейзажных зарисовок этим не ограничивается. Они совершенно необходимы по ходу действия. Это — стержень всего повествования. Не будь описаний природы, рассказ не только утратил бы свои художественные достоинства, но и вообще перестал бы существовать.
Картина Чоросова рассматривается с разных точек зрения: глазами самого художника, который видит свою заслугу в правильной передаче сущности впечатления и сопоставляет виденный когда-то ландшафт с его изображением на полотне, и глазами геолога, усматривающего в картине искусно воспроизведенные особенности горного рельефа. Профессиональными терминами — ребра, вал, фирн, трог — он подчеркивает конкретность деталей и вместе с тем как человек, хорошо чувствующий природу и неравнодушный к искусству, находит нужные слова, чтобы выразить свое непосредственное эмоциональное восприятие «Дены-Дерь». На этом необычном пейзаже и держится безукоризненная мотивировка фантастической гипотезы.
Так построены и другие рассказы Ефремова. Природа и Наука — главные действующие силы, а человек, герой повествования, становится как бы связующим звеном.
И в «Бухте радужных струй» в действие вводится причудливый пейзаж. «Сказочная симфония сверкающих красок», восхитившая советских летчиков, совершивших вынужденную посадку в уединенной флоридской бухте, приводит к неожиданному открытию особой разновидности эйзенгартии — таинственного «коатля» ацтеков или «дерева жизни» средневековых ученых. Свойство эйзенгартии опалесцировать — окрашивать воду каким-то особым веществом, еще не разгаданным наукой, — объясняет необыкновенную окраску бухты, и, таким образом, этот поэтический пейзаж оказывается столь же необходимым для развития сюжета, как и описание озера Горных Духов.
И впечатляющие картины суровой сибирской тайги в «Алмазном трубе» и «Гольце Подлунном», и подробное описание среднеазиатской пустыни в «Тени минувшего» и «Обсерватории Hyp-и-Дешт», и горный ландшафт и «Белом Роге» — все эти детально разработанные и тщательно выписанные пейзажи (они занимают в рассказах Ефремова десятки страниц) не просто украшают повествование, но органически входят в текст как неотъемлемый элемент самого действия.
«Озеро Горных Духов» начинается с рассказа геолога о маршрутном исследовании хребта Листвяги, в области левобережья верховьев Катуни. Точные топографические описания перемежаются лирическими отступлениями.
«Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности».
Спустившись с гор и неожиданно попав к Чоросову, геолог чувствует в его прекрасных и странных пейзажах ту самую душу Горного Алтая, которую он только что открыл для себя.
И в других рассказах романтическая атмосфера создается предчувствием тайны, хранимой самой природой, и чем теснее человек связан с природой, тем скорее овладевает ее тайной.
Каким секретом очарования обладали развалины древней обсерватории Нур-и-Дешт, возвышающиеся на каменистом холме среди жарких песков пустыни? Если в первые дни майор Лебедев испытывал безотчетное влечение к этому унылому месту, ощущая необыкновенный прилив сил и уверенную радость жизни, то позже, как геолог, он попытался объяснить это непонятное явление. После упорных поисков ему удается сделать интересное открытие.
В «Бухте радужных струй» профессор Кондрашов, изучающий по старинным книгам целебные свойства редких растении, не имеет достаточных доказательств для подтверждения своей теории, что такие растения существуют и поныне — надо их только найти. Это обрамление подготовляет читателя к поискам «необыкновенного». Находка летчика Сергиевского подтверждает правоту профессора.

Картина Г. И. Гуркина «Озеро Горных Духов». 1909
Георгий Балабин признается в своей давней любви к Африке. Жизнь не позволила ему стать исследователем Черного континента. Не африканские тропические дебри, а заснеженные сибирские просторы призвали к себе геолога. Но и здесь, во время суровых походов в шестидесятиградусный мороз, его не оставляют мечты о знойной Африке. И после своеобразного лирического вступления, как и в других рассказах Ефремова, постепенно раскрывается главная тема. «Случилось действительно необычное, — вспоминает Балабин. — Тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени».
Найденные Балабиным слоновые бивни и наскальные изображения африканских животных производят особенно сильное впечатление по контрасту с окружающей обстановкой.
Лучшие рассказы Ефремова правдивы и правдоподобны до самых мельчайших подробностей. Автор позволяет себе выдумывать лишь гипотезу и необыкновенные стечения обстоятельств, но обстановка действия и описания природы почти никогда не бывают вымышленными.
С. Маршак в своих «Заметках о мастерстве» («Новый мир», 1958, № 11) привел несколько строк из рассказа «Голец Подлунный», взяв их в качестве примера художественной фантазии, опирающейся на добросовестный и точный труд ученого. «Сколько дней и ночей надо было посвятить своему делу, — замечает С. Маршак, — сколько километров труднейшего пути по пескам, каменистым утесам и льдам надо было измерить шагами, чтобы найти те мельчайшие подробности, которые придают рассказу убедительность и достоверность».
Вот строки, которые цитирует и комментирует С. Маршак: «Гладкие угольно-черные стены вздымались вверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды». Вот эти «ободранные, измочаленные» бревна, забитые в стены ущелья весенним паводком, нельзя придумать — их надо было увидеть и запомнить. Такого рода книги наглядно показывают, как много может подметить глаз художника, если он к тому же вооружен опытом и наблюдательностью ученого».
Да, участвуя в десятках экспедиций, Ефремов исходил и изъездил чуть ли не всю нашу страну, и его видение художника неотделимо от опыта и наблюдательности ученого.
Это он вместе с геологом из рассказа «Озеро Горных Духов» познакомился с ойротским художником из рода Чорос, настоящее имя которого было Григорий Иванович Гуркин, и любовался его картиной «Дены-Дерь». Достаточно сравнить эту картину с пейзажем Чоросова в рассказе, чтобы убедиться, что там нет почти ни капли вымысла.
Кстати, Г. И. Гуркин, талантливый ученик Шишкина, всю свою жизнь отдал изображению родной ему природы Горного Алтая. Упомянутые в рассказе картины «Хан-Алтай» и «Корона Катуни» украшают большой зал Томского областного краеведческого музея. Что же касается лучшего произведения Гуркина — «Дены-Дерь», то одна из авторских копий картины находится в музее Красноярска, а другая — в «Узком», санатории Академии наук под Москвой. Встреча Ефремова с Гуркиным произошла в 1925 году, в Ленинграде, когда художник расписывал для Геологического музея огромное панно «Монгольский Алтай».[40]
Это Ефремов устами Балабина говорит о своей любви к Африке, а геолога из «Озера Горных Духов» заставляет признаться в пристрастии к неяркой северной природе:
«Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...»
Это он, писатель, находясь рядом с профессором Давыдовым на борту парохода «Витим», наблюдал цунами — гигантские волны, вызванные подводным землетрясением. Упомянутый эпизод, включенный в повесть «Звездные корабли», взят Ефремовым не из книжных источников, а пережит им самим. Однажды, когда он, молодой матрос, проходил на кавасаки вдоль Курильских островов, «одна за другой, при ярком свете луны, неслись по океану громадные волны без всякого шторма. Они прошли, — вспоминает Ефремов, — очень быстро, всего за минуту или меньше, накатываясь на отдаленную береговую отмель».
Чурилина и Султанова, героев рассказа «Алмазная труба», писатель провел через хаос гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом. Голодный поход, проделанный самим Ефремовым-геологом в другом районе сибирской тайги, был не менее труден, нежели поход, совершенный его героями. Вдвоем с гольдом он сначала пробивался по бурной реке, а затем шел семь суток сквозь лесные чащобы, делая по пятнадцать перевалов в день без крошки пищи.
И в рассказе «Тень минувшего» эпизод переправы Никитина через поток Боллоктас повторяет то, что было пережито самим автором, преодолевшим большие пороги на реках Олекме, Тонко и Витиме.
«В общем, — говорит Ефремов, — почти в каждый рассказ вкраплены воспоминания об эпизодах моей собственной путешественнической или морской жизни».
Мы уже упоминали об остром интересе писателя к географии, этнографии, народным преданиям и легендам, особенностям местных говоров и речений и т.д. Все это, вместе взятое, придает его рассказам особый колорит и вводит в них, в зависимости от темы и обстановки, новые лексические слои. И даже специальная терминология — географическая, геологическая, палеонтологическая, горнорудная, морская — совершенно свободно ложится в текст и придает описаниям наибольшую конкретность.
Ефремов стремится обновить и обогатить литературную речь за счет «профессионального языка», присущего специалистам нескольких областей знания.
Уместно напомнить правильное, на наш взгляд, суждение А. Югова о необходимости расширения писательского словаря за счет профессиональной терминологии. «Надо признать наконец, — пишет он, — самодовлеющую художественность, которая в избытке присуща языку специалистов. При одной лишь оговорке, что этот язык не засорен без надобности ненужной, «непереваренной» иностранщиной. Пройдитесь хотя бы по словарю геологов, горняков. Какой самодовлеющей красоты, изобразительности он исполнен! Изломы, сбросы, кряж, хребты, залегание, оруденение, руда, пласт, кровля пласта, слой, глыба, самородок, недра, порода, самосветы (именно так, а «самоцветы» — это уже испорченное); крепь, забой, вброт, железняк, плавка, россыпь, постель россыпи и т.д. и т.п.» («Литература и жизнь», 28 октября 1960 г.).
Так и кажется, что А. Югов берет эти примеры из рассказов Ефремова.
Вот каким видит геолог Усольцев неприступный Белый Рог:
«Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуза были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...» А вот типичный отрывок из «морского» рассказа: «Бригантина под единственным уцелевшим марселем неслась на фордевинд. Скрип судна, голоса людей потонули в оглушительном грохоте шторма. Мачты, казалось, бесшумно раскачивались и гнулись в своих гнездах, угрожая обрушиться на палубу. Бушприт то устремлялся вниз, намереваясь вонзиться в крутую стену воды над глубоким ущельем между двумя волнами, то пытался проткнуть побуревшие облака. На палубе крутилась и неслась вспененная вода, водопадом низвергаясь со шканцев» («Последний марсель»).
Большое внимание уделяет Ефремов местным выражениям и метким народным словечкам, которые помогают ему вводить в литературный язык много новых, уточняющих понятий. И это вполне закономерно. Ведь среди персонажей его рассказов мы встречаем людей разных национальностей и географических зон. Тут и коренные сибиряки и горно-алтайцы, якуты и тунгусы, уйгуры и тувинцы, казахи, туркмены, узбеки.
Отсюда в рассказах обилие таких непривычных слов, как голец, хиуз, ботала, такыр, согджой, чий, джидда, шем-шир, джете и т.д. и т. п. Конечно, почти в каждом случае можно было бы найти для замены какое-нибудь более распространенное слово, но тогда описания утратили бы свой особый колорит.
Наряду с этим мы часто встречаем подлинно писательские находки — удивительно точные зримые образы, надолго остающиеся в памяти.
«Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала... Вскоре в этот слабый, точно призрачный звон вплелись такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал».
Или:
«В недвижном воздухе морозного утра пар, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршанье. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов».
И еще один образ, дающий представление о сибирском морозе:
«Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах».
Выдумать все это невозможно. Такое нужно увидеть и услышать! Такое надо уметь точно и зримо передать!
Герои рассказов Ефремова ищут необыкновенное не только в тайниках природы, но и в старинных сказаниях и легендах, которые переходят из уст в уста и хранятся в памяти поколений. Легенда часто становится путеводной нитью для будущего открытия. Она связывает прошлое с настоящим, она часто содержит то самое зерно неразгаданной правды, которое предстоит отыскать исследователю.
Если бы Балабин не услышал рассказ старого якута Кильчегасова о «черте», то есть необъяснимом для местных жителей явлении природы, и не воспользовался его помощью как проводника, «кусочек Африки» в Сибири так и не был бы обнаружен.
Подтверждение старинных народных преданий о чудовищных животных мы находим и в «Олгое-хорхое», и в «Атолле Факаофо» (появление морского змея). В «Тени минувшего» чабаны показывают палеонтологам, где находится невиданное по размерам кладбище вымерших ящеров: «Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погубленных потопом гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей». Рассказ старого штейгера о необыкновенной судьбе крепостного парня Андрея Шаврина, воскрешающий страшные картины подневольного труда на медных рудниках, понадобился Ефремову для обострения сюжета. По следу беглеца, по тем же самым, давно уже заброшенным выработкам проходит теперь горный инженер Канин, и в этих подземных странствиях его словно сопровождают печальные призраки прошлого.
А в рассказе «Белый Рог» древняя легенда о батуре, который поднялся на неприступный утес и оставил на его вершине золотой меч, становится основой самого сюжета. Геолог Усольцев, тщетно пытавшийся «взять» Ак-Мюнгуз, чтобы разгадать его геологическую структуру, вдохновляется подвигом батура и вновь штурмует утес. Оказавшись в безнадежном положении на высоте ста пятидесяти метров, он внезапно вспоминает, что батур поднимался на вершину в такой же бурный день. Ветер прижимал его к скале, облегчая подъем. И тогда Усольцев понял, что ветер может помочь и ему. Найдя на вершине золотой меч батура, он положил вместо него свой геологический молоток. «Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцёва... Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения».
Предположение геолога подтвердилось: геологическая структура Белого Рога говорила о богатейшем месторождении олова...
Но никакое открытие не делается человеком в одиночку. Помимо того, что за его плечами всегда стоят труд, мысли, знания, опыт, подвиги людей прошлых поколений, на помощь ему приходят современники — не только товарищи по работе и ученые других специальностей, но и простые люди, казалось бы, совсем далекие от науки.
Мысль самого Ефремова и многочисленных его героев — ученых, открывателей нового — прекрасно выражена палеонтологом Никитиным, научившимся улавливать «тени минувшего»: «Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего».
В некоторых рассказах романтика открытий и научного подвига соединяется с едва намеченной любовной линией сюжета. Облагораживающее влияние на душу героя оказывает и величественная природа, и женщина, которая всегда с ним рядом — и в труде, и в поиске, и в опасностях. Поступками героя движет, таким образом, не только желание до конца выполнить свой долг, но и предстать в лучшем свете в глазах любимой.
Успокоение и чувство радости, пришедшие к майору Лебедеву под воздействием живительной радиации, не были бы так полны, не будь около него Тани, девушки с чуткой и тонкой душой. Юная узбечка Мириам, первая поверившая в открытие палеонтолога Никитина, помогла ему заглянуть в глубину природы, уловить «едва различимую музыку молчаливой пустыни». Усольцев, перед тем как совершить безмерно трудное восхождение на Ак-Мюнгуз, задумывается над словами нравящейся ему молодой женщины, геолога Веры Борисовны: «Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая, обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!»
Ясно, что не только легенда о батуре, но и призыв к подвигу поверившей в него женщины помогли Усольцеву совершить невозможное.
В одном из последних рассказов, «Юрта Ворона», девушка-шофер соглашается отвезти парализованного геолога Александрова вместо санатория в таежную глушь, к перевалу, где, по его предположениям, находится богатое месторождение свинца. Желая во что бы то ни стало проверить свою догадку и закончить таким образом свой путь искателя, он убеждает девушку, что иначе поступить не может. Над перевалом Юрта Ворона вечно свирепствуют грозы, и, по-видимому, молнии, привлеченные к скрытому в земле металлу, могут точно указать месторождение. И Александров, беспомощный калека, хочет попытаться «догнать молнию» и вбить колышек на месте ее удара.
Девушка смело берет на себя ответственность за жизнь дорогого ей человека. Нет, не преступление, а благодеяние совершит она, если таким способом «хозяин тайги» обретет былую душевную твердость!
Возвращаясь в «Юрте Ворона» к тематике своих ранних «геологических» рассказов, Ефремов уделяет теперь больше внимания раскрытию характеров героев, нежели описанию загадочных явлений природы. Этот поворот от научной гипотезы к ее творцу, человеку, находит выражение и в других произведениях, о которых нам еще предстоит говорить.
В «Рассказах о необыкновенном» кроме геолого-палеонтологической большое место отводится и морской теме.
Море вошло в судьбу Ефремова в годы формирования его личности, когда особенно остро воспринимаются и навсегда оседают в памяти все жизненные впечатления. Бывший матрос, познавший на практике морское дело, он с большой точностью и конкретностью изображает жизнь на корабле и создает превосходные морские пейзажи. Даже в тех случаях, когда действие переносится в далекие экзотические страны, где писателю не довелось побывать, его географические и этнографические описания зримы и достоверны.
Но море видится Ефремову как бы сквозь дымку времени. Для него это уже романтика молодости. Может быть, поэтому в его морских рассказах иногда так отчетливо звучат интонации Грина, Стивенсона и Конрада, писателей, которыми он увлекался с юных лет.
Ефремов остается верен себе и в морской теме. И здесь его больше всего привлекают необъяснимые явления природы, неожиданные открытия и мужественные люди, которые противоборствуют слепым стихиям.
Английский капитан Джессельтон, погибший со своим кораблем в 1793 году, унес в могилу тайну «живой воды», но при удивительном стечении обстоятельств его записки попадают в руки советского моряка. Несомненно, они послужат материалом для будущих исследований глубин Тускароры. И таким образом гуманистическая мысль о преемственности идей и традиций получает здесь поэтическое воплощение («Встреча над Тускаророй»).
Профессор-океанолог, призывая моряков помочь ученым в исследовании непознанных глубин мирового океана, говорит, что труд и разум человека могут преодолеть любое препятствие. Он рассказывает историю крошечного атолла Факаофо, в группе коралловых островов Токелау. Жители атолла, лежащего на пути постоянных ураганов, «бронзовокожие полинезийцы, прирожденные моряки, обнесли остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали насыпь в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива... Какое бесстрашие и глубокое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук!»
И хотя об атолле Факаофо больше ничего не говорится, он становится символом победы людей над океаном («Атолл Факаофо»).
Самый значительный и наиболее самостоятельный по литературной манере морской рассказ Ефремова — «Катти Сарк». Давний интерес писателя к истории парусного флота вдохновил его на создание произведения, «героем» которого стал легендарный английский корабль.
Интересна даже сама судьба этого рассказа. Почерпнув нужные ему сведения из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов», Ефремов восполнил в воображении недостающие ему факты.
Вымысел начинается с того момента, когда молодой американский офицер Эффингхем, энтузиаст парусного флота, добился в конце 1939 года отпуска средств на покупку «Катти Сарк», с тем чтобы поместить замечательный корабль в специально построенном павильоне при морском музее. В то время «Катти Сарк» была заброшена судьбой в африканские воды, и приобретение судна состоялось в Лоренцо-Маркезе.
Капитану Эффингхему хотелось самому привести «Катти Сарк» к вечному причалу. Так как японцы уже совершили нападение на Пирл-Харбор, он взял курс на Сан-Франциско через Атлантический океан, намереваясь пройти Панамским каналом. И здесь снова обнаружились великолепные маневренные качества прославленного клипера. Встретив немецкий линкор, капитан, не зная о том, что США вступили в войну с фашистской Германией, выкинул звездный флаг. Спасли «Катти Сарк» надвинувшийся туман и легкое повреждение при обстреле, внезапно замедлившее ход. В противном случае пушечный выстрел угодил бы непременно в корабль.
Ускользнув от преследования немцев, капитан Эффингхем благополучно привел «Катти Сарк» к себе на родину, и с тех пор она стала музейной реликвией.
В 1946 году рассказ был переведен в Англии.
— На мое имя, — говорил нам Ефремов, — стали поступать письма: англичане обиделись, почему в рассказе не они, а американцы спасли «Катти Сарк» от разрушения. В то время — а я этого не знал, когда писал «Катти Сарк», — она стояла на мертвом приколе в Гринвиче. Я, конечно, не думаю, что мой рассказ явился для этого непосредственным поводом, как у нас сообщали, но, так или иначе, в 1951 году в Англии возникло «Общество сохранения «Катти Сарк». Это и побудило меня написать рассказ заново. В новом варианте, опубликованном в 1958 году, биография судна стала более достоверной, все эпизоды подтверждаются фактами.
Ефремов поставил перед собой трудную и увлекательную задачу: через «биографию» судна показать характеры и судьбы людей, которые были связаны с «Катти Сарк» в разные периоды ее существования.
Своеобразна и композиция произведения. Старый русский моряк, знаток парусного флота Даниил Алексеевич Лихтанов рассказывает своим друзьям историю клипера «Катти Сарк». (В образе Лихтанова нетрудно узнать давнего знакомца Ефремова, капитана и морского писателя Дмитрия Афанасьевича Лухманова, впервые сообщившего русским читателям в одной из своих повестей некоторые сведения об английском паруснике).
Командированный советским правительством в 1922 году в Англию, Лихтанов увидел в Фальмутском порту старую, грязную, нелепо раскрашенную португальскую баркентину. Это оказался клипер «Катти Сарк» — былая слава английского парусного флота! Встречи Лихтанова с английскими моряками — капитаном Вуджетом, много лет проплававшим на этом клипере, капитаном Доумэном и другими — помогают ему восстановить историю «рождения» и героической «жизни» «Катти Сарк». Все собранные сведения изложены Лихтановым в форме поэтической повести, которую он и читает друзьям.
...Конец шестидесятых годов прошлого столетия. Богатый шотландец Джон Виллис воплотил в жизнь свою заветную мечту. По его заказу на верфях в Думбартоне был построен чайный клипер, превосходящий все существующие своей красотой, быстроходностью и остойчивостью. Корабельные мастера вложили в это судно все свое умение и искусство. Манящий образ молодой ведьмы из поэмы Роберта Бернса — Нэн Короткой Рубашки — побудил Джона Виллиса дать своему клиперу странное название «Катти Сарк», то есть «Короткая Рубашка». И в самом деле, «волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти».
Для истого моряка было счастьем ходить на этом клипере. Вся команда во главе с молодым капитаном Вуджетом была влюблена в «Катти Сарк». «Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира!»
Под пером Ефремова парусное судно становится живым существом — пленительным, верным, бесстрашным. Драматическая история возвышения и падения «Катти Сарк» волнует так же, как если бы речь шла о жизни человека. Перенося на облик судна черты внешности и характера бернсовской Нэн, писатель достигает большого эмоционального воздействия.
Обгоняя грузный почтовый пароход, клипер «возникал белокрылым лебедем среди моря... и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий». «Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход».
Судьба «Катти Сарк» — одновременно и судьба ее капитанов.
Когда сила пара вытеснила силу ветра и эксплуатация даже такого парусника стала невыгодной, сыновья Джона Виллиса продали «Катти Сарк» португальцам. И капитан Ричард Вуджет, прощаясь со своей любимицей, «вдруг крепко сжал поручни мостика, так, что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда».
Во время первой мировой войны состарившаяся «Катти Сарк» совершает свой последний неслыханный подвиг. Подведя ее вплотную к вставшему на дыбы пассажирскому пароходу, торпедированному немецкой субмариной, португалец Феррейра спасает семьсот человеческих жизней, уводит клипер из-под жестокого обстрела и, тяжко раненный, умирает на капитанском мостике.
Простой английский моряк Доумэн, израсходовав все свои сбережения, выкупил и восстановил «Катти Сарк». Но, когда море снова приняло возрожденный клипер, капитан Доумэн понял, что прошлое вернуть невозможно, — легендарный парусник принадлежит истории.
Лишь много лет спустя после смерти последнего владельца клипера, Доумэна, было образовано «Общество сохранения «Катти Сарк». Теперь, полностью реставрированная и доступная для обозрения, она стоит в специальном сухом доке близ королевского Морского колледжа в Гринвиче...
Идея этого рассказа, одного из лучших образцов морского жанра в советской литературе, определена заключительными словами автора:
«В каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!..»
...Биолог приник к бинокулярам большого телескопа, нацеленного в прозрачное ночное небо. Ни красноватый диск Марса с его «каналами», разреженной атмосферой и чахлой растительностью, ни закутанная в одеяло туч, лишенная свободного кислорода Венера, ни планеты-гиганты, холодные и темные, как нижние круги Дантова ада, не интересуют профессора Шатрова.
Ствол телескопа, направляемый умелой рукой астронома Вельского, движется к созвездию Стрельца, туда, где огромная черная туманность скрывает от взора шарообразное скопление мириадов звезд — центр Галактики.
В повести «Звездные корабли» Ефремову удалось особенно ярко показать связь самых разнообразных наук, казалось бы не имеющих между собой никаких точек соприкосновения.
Развивая идеи и художественные принципы, положенные в основу «Рассказов о необыкновенном», он пошел еще дальше по этому пути. Его повесть поразила читателя не только могучей фантазией и убеждающей силой логики, но и своей новизной. По методу построения, как и большинство «Рассказов о необыкновенном», она напоминает классические образцы детективного жанра. Выдвигается какая-то посылка — первоначальное звено еще не существующей цепи доказательств. Умелое применение логического анализа — дедукции и индукции — помогает раскрытию тайны. У Ефремова в основу сюжета кладется не загадочное преступление, а тайна природы, и вместо сыщика героем становится любознательный ученый.
В «Звездных кораблях» такой первоначальной «посылкой» служит небольшой картонный ящик, испещренный китайскими иероглифами, неожиданно полученный профессором Шатровым от молодого палеонтолога Тао Ли. В ящике оказались обломки костей хищных динозавров с какими-то странными сквозными отверстиями. Шатров, к своему величайшему удивлению, устанавливает, что такие овальные отверстия могли быть сделаны только огнестрельным оружием.
Обещанного Тао Ли подробного письма так и не последовало. Молодого ученого убили чанкайшистские бандиты, но сделанное им открытие дает толчок для последующих умозаключений.
Чудовищные ящеры безраздельно господствовали на нашей планете в меловой период — 70—75 миллионов лет назад, что полностью исключает возможность их встречи с человеком.
Значит, на Земле побывали разумные существа из какого-то иного звездного мира.
Но как это могло произойти? Ведь расстояние между звездными системами, на которых возможны высокие формы органической жизни, исчисляются биллионами и триллионами километров. Даже со скоростью света такие океаны пространства можно было бы преодолеть лишь за десятилетия. Но скорость света для любого звездного корабля исключена. Следовательно, пришельцы из космоса должны были провести в своем корабле целые века по земному исчислению... Шатрову это кажется совершенно невероятным. (В 1947 году Ефремов еще не допускал достижения субсветовых скоростей и тем более фантастического принципа «сжатия времени», выдвинутого значительно позднее в рассказе «Сердце Змеи».) На помощь Шатрову приходит теория другого молодого ученого — советского астронома, погибшего в годы Отечественной войны; он утверждал — и тут, по-видимому, оказывает влияние космогоническая гипотеза О. Ю. Шмидта, — что через гигантские промежутки времени наша планетная семья сближается с другими звездными мирами Галактики, подобно тому как происходят «великие противостояния» внутри солнечной системы. Последнее из таких сближений, по расчетам ученого, произошло в меловом периоде, то есть 70—75 миллионов лет назад. Расшифровывая найденные записи своего бывшего ученика, Шатров поневоле должен был заняться астрономией, чтобы получить теоретические доказательства возможности посещения Земли гостями из космоса именно в тот период.
Так астрономия протягивает руку помощи палеонтологии. Но от гипотезы до научного открытия дорога еще велика.
Шатров вместе с другом и коллегой, профессором Давыдовым, тщетно пытается организовать экспедицию в провинцию Сикан, где Тао Ли сделал свое необыкновенное открытие. Чанкайшистские власти отказывают во въезде советским палеонтологам.
Шатров готов уже смириться с неизбежностью, но тут вступает в действие новая гипотеза, выдвинутая Давыдовым.
Если Землю действительно посетили разумные существа из космоса, то вряд ли они ограничились обследованием только одной горной области. Они могли столкнуться с динозаврами и в других местах, и, значит, следы их пребывания можно искать там, где имеются наибольшие скопления остатков вымерших животных.
«У нас, — рассуждает Давыдов, — есть подходящие для этого места в горах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вообще Средней Азии. Эти горы как раз относятся к великой эпохе альпийского горообразования, начавшегося в конце мелового периода».
Возникают следующие вопросы: что искать, то есть каковы могут быть следы звездных пришельцев и что им могло понадобиться на нашей планете, когда ее населяли только безмозглые рептилии?
На первый вопрос отвечает Шатров. Он доказывает, что общность химических и физических законов во всех глубинах мирового пространства неминуемо приводит и к единству эволюции органической материи. После многих умозаключений, взаимосвязанных, строгих и очень логичных, он делает такой вывод:
«Формы человека, его облик как мыслящего животного не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом. Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик. Потому всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе».
Итак, искать нужно остатки человекоподобного существа.
На второй вопрос — что могло понадобиться мыслящим существам на Земле? — отвечает Давыдов, подводя итог своим многолетним размышлениям о природе тектонических сил и горообразовательных процессов.
Он полагает, что горные хребты обязаны своим происхождением силам распада сверхтяжелых элементов в глубинах земной коры. В какие-то моменты энергия атомных реакций прорывалась наружу в виде мощного излучения. В меловой период, когда тектонические движения были особенно интенсивными, образовывались обширные области массовой гибели животных. Этим объясняется не только наличие в горных районах огромных кладбищ динозавров, но и быстрое исчезновение исполинских ящеров с лица земли.
Отсюда и смелое предположение Давыдова: пришельцы из космоса искали в Гималаях источники атомной энергии, необходимой для звездных кораблей. Но ведь такие же источники атомной энергии находились и в других местах — именно там, где обнаружены участки, усеянные костями динозавров.
Так, в решение сложнейшей научной задачи, наряду с палеонтологией и астрономией, вносят свой вклад еще две науки: биология и геология.
Цепь логических построений замыкается. Дело остается «за малым» — найти «вещественные доказательства».
...На помощь исследователям приходят производственные интересы страны — строительство крупных каналов и мощных электростанций на территории Казахстана. Неизбежно будут вскрыты верхнемеловые отложения в области Каркаринской котловины, где известны большие скопления костей динозавров.
Давыдов с группой помощников ведет наблюдения за земляными работами. Догадка ученых блестяще подтверждается. Рядом с белым костяком хищного ящера, убитого тем же таинственным оружием, находят странный темно-фиолетовый череп, подобный человеческому, с широким и крутым лбом. Из недр земли извлекают еще какие-то металлические обломки и тяжелый танталовый диск, скрывавший «фотографию» звездного пришельца.
«Из глубины совершенно прозрачного слоя, увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров, на них взглянуло странное, но несомненно человеческое лицо. Неизвестным способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым. Казалось, живое существо смотрит, отделенное только прозрачной стенкой оптической линзы. И прежде всего, подавляя остальные впечатления, в упор смотрели громадные выпуклые глаза. Они были как озера вечной тайны мироздания, пронизанные умом и напряженной волей, двумя мощными лучами, стремящимися вперед, через стеклянную преграду, в бесконечные дали пространства. В этих глазах был свет безмерного мужества разума, сознающего беспощадные законы вселенной, вечно бьющегося в муках и радости познания».
Так писатель утверждает проходящую через все его творчество материалистическую идею о единстве в разных уголках мирового пространства великого процесса эволюции, становления высшей формы материи и творческой работы разума.
Увлекательность повествования создается не за счет стремительно развивающегося действия, таящего в себе разного рода неожиданности, а только за счет напряженности мысли. Сюжетом этой научно-фантастической повести становится работа ума, беспрерывное движение идей, настолько смелых и оригинальных, что они захватывают читателя своей «голой сутью», несмотря на то что изобразительные средства «Звездных кораблей» — язык и стиль — оставляют желать лучшего.
Ефремов не сумел индивидуализировать характеры своих главных героев — Шатрова и Давыдова, но это не помешало ему показать сложный духовный мир ученого, с его бесконечными исканиями, кропотливым каждодневным трудом, вечной неудовлетворенностью ума, бьющегося в тисках неразгаданного, и редкими, но яркими, как вспышки магния, радостями открытий, озаряющими ученому его тернистый путь.
По существу, герои «Звездных кораблей» — не два профессора-палеонтолога, а их научные идеи, сама наука.

«Катти Сарк»
Гипотеза молодого советского астронома и открытие китайского ученого не погибли! Подхваченные Шатровым и Давыдовым, они вошли в сложную систему доказательств и в конце концов привели к разгадке тайны, хранимой недрами земли на протяжении семидесяти миллионов лет.
Но Шатров и Давыдов, обладающие целым арсеналом разнородных знаний, были бы бессильны, не приди им на помощь коллектив ученых и сотни рабочих, чьими руками и были осуществлены громадные раскопки.
В научно-фантастической литературе повесть «Звездные корабли» — произведение безусловно новаторское.
Давно уже установлено, что оригинальное творчество не отрицает традиций. В художественной литературе традиции — это усвоение и обогащение опыта предшественников, идей, мастерства, творческих принципов и т.д. Традиции бывают хорошие и дурные, усвоенные глубоко и поверхностно, способствующие расцвету искусства или вырождающиеся в бездушное подражательство и эпигонство.
В научной фантастике, как в любом другом жанре, неизбежно повторение тем и варьирование сходных сюжетов. И это тем более естественно, что фантастика развивается в симбиозе с наукой. Все зависит от того, как используются в разных произведениях одинаковые темы, подсказанные наукой, и в каком виде возрождаются заимствованные сюжеты.
Возьмем широко известный сюжет — путешествие «к центру Земли» и встречу человека с чудом уцелевшими «допотопными» чудовищами. Вслед за Жюлем Верном эту тему использовали А. Конан-Дойл и В. Обручев. Несмотря на то, что в обоих случаях мы имеем дело с заимствованным сюжетом и допущением заведомо невозможного, «Затерянный мир» и «Плутония» — не подражательство, а развитие и обогащение традиций. Если бы это было не так, книги Конан-Дойла и Обручева не выдержали бы проверку временем.
Ефремов избирает другой путь, заменяя чисто фантастическое предположение научно аргументированным. С «допотопными» чудовищами встречаются в его повести не люди, жители Земли (их тогда еще не было), а звездные пришельцы, опустившиеся на молодую планету из глубин космоса. Литературная традиция обогащается здесь до такой степени, что происходит резкий качественный сдвиг. В «Звездных кораблях» мы находим неожиданное соединение в один «чудесный сплав» различных научных проблем, помогающих решению оригинального замысла.
Удачно разработанная новая тема, как это всегда бывает в литературе, находит своих продолжателей. В. Соловьев построил на подобных же мотивах приключенческий литературный киносценарий «Триста миллионов лет спустя», В. Карпенко — повести «Тайна одной находки». П. Аматуни — фантастический и приключенческий роман «Гаяна». В каждом из этих трех случаев (перечень произведений можно было бы и продолжить) легко усмотреть попытку варьировать на разные лады тему «Звездных кораблей». Однако после Ефремова эти произведения, пожалуй, не внесли в развитие темы ничего принципиально нового.
Но вот появляется повесть Г. Гора «Докучливый собеседник». И в ней наши современники пытаются проникнуть в тайну звездного гостя, череп которого сто тысяч лет покоился в земле, пока его не раскопали археологи. Писателя интересует в данном случае не обоснование возможности такой находки, а воображаемый духовный мир — мысли, чувства, переживания, научные и философские взгляды космического Путешественника, попавшего на Землю вместе со своими удивительными роботами в то время, когда ее населяли неандертальцы. Необычный поворот действия, интересные размышления о проблемах кибернетики будущего, о перспективах биохимии и биофизики, о происхождении жизни и путях ее развития во Вселенной, о людях гипотетической планеты, откуда прибыл Путешественник, — все это, вместе взятое, наполняет философско-фантастическую повесть Г. Гора новым и очень богатым содержанием. Здесь уже тема «Звездных кораблей» предстает в совершенно ином качестве и получает таким образом дальнейшее развитие, отвечающее запросам времени.
Мы не раз убеждались, что фантастические гипотезы Ефремова находили жизненное подтверждение. Интересно отметить, что и в «Звездных кораблях» предвосхищены предположения некоторых ученых и литераторов о пребывании на Земле «гостей» из космоса, следы которых так упорно ищутся в наши дни. В частности, писатель А. Казанцев приводит целый ряд доказательств (не будем говорить о степени их убедительности) в подтверждение этой гипотезы.[41] Одно из них почти совпадает с фантастическим допуском Ефремова. В одесских катакомбах недавно были найдены кости ископаемых животных, якобы пробитых каким-то металлическим орудием. Правда, возраст этих костей исчисляется не десятками, а «всего лишь» одним миллионом лет.
Повесть Ефремова получила признание не только у советских читателей, но и за рубежом. После того как она была издана в США, известный критик Александр Маршак посвятил ей обширную статью, помещенную 2 июня 1956 года на страницах «Сатердей ревью».
Оценивая «Звездные корабли» как «первую русскую настоящую научно-фантастическую повесть», обращенную, по его мнению, «только к тем читателям, которые любят науку», А. Маршак высказывает сожаление, что она лишена привычных для американских любителей элементов занимательности — «потрясающих битв между звездными людьми и землянами, межпланетных заговоров и диверсий, а главное — секса в одном из многих научно-фантастических превращений».
Даже при всей односторонности своих суждений американский критик не мог не заметить главного: повесть «Звездные корабли» не забавляет, а прививает любовь к науке, заражает читателей романтикой познания.
В творчестве Ефремова «Звездные корабли» — произведение переходное. С одной стороны, оно как бы завершает цикл «Рассказов о необыкновенном», с преобладающей в них геологической и палеонтологической темой, с загадочными явлениями природы и удивительными открытиями, а с другой стороны, эта повесть подготавливает переход писателя к осмыслению проблем космического века, к большой мечте о будущем человечества, которая нашла свое воплощение в романе «Туманность Андромеды» и в повести «Сердце Змеи».
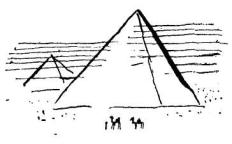 Глава
четвертая
Глава
четвертая
Африка
в жизни и творчестве Ефремова. — Замысел "Великой Дуги". —
"Путешествие Баурджеда". — Деспотический Египет Древнего царства. —
Открытие большого мира. — Рассказ о путешествии. — Уахенеб и восстание рабов. —
"На краю Ойкумены". — Символическое значение геммы. — Приключения
Пандиона. — Воспитание его характера. — Тема родины. — Образы Кидого и Нави. —
Тема великого братства. — Формирование Пандиона как художника. — Загадки
древней истории и гипотезы Ефремова. — "Адское пламя". —
"Афанеор, дочь Ахархеллена".
Обращение Ефремова к исторической теме было подготовлено его профессиональным интересом не только к далекому прошлому Земли, но и к истокам человеческой цивилизации. Читателям, полюбившим Ефремова как фантаста, могло показаться странным и неожиданным появление «Великой Дуги».
Но по существу Ефремов остается фантастом и в исторических повестях, поскольку художественный домысел преобладает над зарегистрированными фактами, относящимися к такому-то периоду Древнего египетского царства или Эллады эпохи формирования классического античного общества. Реконструкция воображаемой картины, намеченной археологами и историками древнего мира, сближает исторические повести Ефремова с произведениями научной фантастики. Но как бы ни был велик в данном случае авторский домысел, он не вступает в противоречие с научной достоверностью.
Мы не раз говорили об историзме мышления Ефремова. Еще в детские годы он читал и перечитывал исторические романы Загоскина, Лажечникова, Вальтера Скотта, Эберса, Конан-Дойла. Великолепное преподавание истории таким знатоком своего предмета, каким был профессор А. И. Андреев, и знакомство с историческим материализмом в школе и в университете направило эти интересы в осознанное русло. Став впоследствии расшифровщиком геологической летописи, Ефремов никогда не забывал и о летописях народов Земли. Он просто не представлял себе, как можно жить и работать, не увлекаясь историей.
Что же касается устойчивого интереса именно к Африке — месту действия его исторических повестей, то объясняется это многими причинами. Первоначальным толчком, несомненно, послужило знакомство подростка с романами Хаггарда, в которых далекая страна предстает прежде всего с экзотической стороны, как кладезь неразгаданных тайн и романтических приключений. А затем, в годы юности, появились уже целенаправленные географические пристрастия. Ефремов, подобно одному из своих героев, Балабину, бредил малоисследованным Черным материком, «мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки». Географические интересы переплетались с историческими. Тут помогло н знакомство с романами Георга Эберса, «открывшими» будущему писателю древний Египет.
В разные периоды отношение к Африке менялось, но она никогда не выходила из сознания Ефремова. Для палеонтолога и геолога этот континент представляет исключительный интерес, как малоизученный осколок минувших времен, где и животные, и растения хранят в себе черты далекого прошлого планеты.
Южная Африка — подлинная палеонтологическая сокровищница. Ведь там были открыты горизонты древней жизни и огромное количество самых странных, самых загадочных, самых удивительных пресмыкающихся пермского периода. Африка, как предполагают многие ученые, была и местом возникновения первого человека. На ее территории обнаруживаются следы очень древних и еще не изученных цивилизаций.
— Для меня, — говорил Ефремов, — всегда звучит старое римское изречение, принадлежащее Плинию: «Ex Africa semper aliquid novi» — «Из Африки — всегда что-нибудь новое». И оно всегда оправдывалось: палеонтологические, географические, исторические открытия следуют там одно за другим. Вот почему у меня возникло стремление познать и ощутить прошлое посредством пейзажей, животных, растений и, наконец, людей Африки, как ключей к воссозданию ретроспективной, но живой картины ушедшего мира...
И конечно, человек с таким обостренным восприятием исторического процесса не мог ограничиться бесстрастным описательством. Он познаёт историю в движении, стараясь найти даже в очень далеком прошлом те звенья, которые связывают цепь времен. Протест против всяческой деспотии и подавления личности, в каких бы формах они ни выражались, и лег в основу идейного содержания «Великой Дуги» — дилогии, состоящей из повестей «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены». Создавая эти произведения, писатель думал не только о древнем прошлом, но и о настоящем и будущем Африки, думал не только об исторических судьбах Черного материка, но и о судьбах других народов. И сейчас, когда перечитываешь «Путешествие Баурджеда», становится понятно, почему эта вещь не могла быть своевременно напечатана...
Поначалу Ефремов предполагал написать трилогию, заключительная часть которой наметилась в прологе к повести «На краю Ойкумены». Однако произведение и без того приняло законченную форму, и третья часть так и не была написана.
В «Великой Дуге» писатель оспаривает общепринятое мнение о неподвижности географических границ древнего мира.
Еще со школьных лет в нашей памяти остаются карты Земли по представлениям Гомера и Геродота. Как узок был этот мир, ограниченный сравнительно небольшими пространствами, прилегающими к бассейну Средиземного моря! А дальше лежали неведомые сказочные страны, охваченные великой дугой океана... И популярные истории географических открытий начинались обычно с путешествий Ганнона Карфагенского и Геродота, совершенных в VI—V веках до н.э. Но еще задолго до этих прославленных путешественников внесли свой вклад в расширение границ познанного мира народы древнего Востока.
Об одном из таких забытых путешествий, относящихся к Древнему царству древнего Египта, и рассказывается в повести «Путешествие Баурджеда».
Строго придерживаясь исторических данных, автор сознательно допускает временное смещение: плавание Баурджеда в полулегендарную страну Пунт (по-видимому, на побережье Аденского залива) и еще южнее — к берегам реки Замбези — перенесено ко времени фараона Джедефры (IV династия). На самом же деле оно имело место позже, при фараоне V династии Сахуре, то есть спустя 100—120 лет. Таким образом, действие происходит в XXIX веке до н.э. Историкам известно, что египтяне уже в те времена отправляли экспедиции на поиски страны Пунт.
Необъятный мир видится глазами знатного египтянина, для которого вся Земля ограничивалась до путешествия страной Та-Кем — «Большим домом» фараона.
В повести «На краю Ойкумены» события приурочены к Новому царству древнего Египта, то есть примерно к XI—X векам до н.э.
После путешествия Баурджеда прошло уже 2000 лет. Географические границы мира расширились. Египет и экваториальная Африка изображаются теперь через восприятие греческого юноши, скульптора Пандиона.
Уроженец Энниады, одной из областей северной Греции, он отправляется на остров Крит, терпит много злоключений, попадает в рабство к фараону, а затем с группой бывших невольников проделывает неимоверно трудный переход через весь Черный материк, с востока на запад.
В этой повести не только раздвигаются пределы населенной земли — Ойкумены, но и приходят в тесное соприкосновение представители разных народов, разделенных, казалось бы, совершенно непреодолимыми расстояниями.
— Мне хотелось написать о культуре древнего Египта и Эллады и вместе с тем об искусстве этих стран, — говорил нам Ефремов, — ибо культура неотъемлема от искусства, которое в древности играло, пожалуй, большую роль в жизни общества, чем теперь. Египет и Эллада даны в противопоставлении. Египет — страна замкнутая, косная, стонущая под бременем деспотической власти. Эллада — страна открытая, жизнелюбивая, с широким кругозором.
Для развития моего самосознания исключительно велико было значение Эллады и эллинской культуры. Ни один народ в мире не выразил себя так полно и свободно в своем искусстве. Это первая в истории человечества культура, для которой в период ее расцвета характерно увлечение эмоциональной жизнью человека — гораздо больше в сторону эроса, чем религии, что резко отличает ее от древнеегипетской религиозной культуры. Последняя была унаследована от неолита и даже палеолита. Египетские зверобоги не утратили первобытной суровости. Их создавали бродячие охотники, хорошо знакомые с повадками зверей. Охотничьей религии, унаследованной от глубокой древности, был придан философский смысл. Кроме того, впервые от «сотворения мира» религия стала в Египте фактором государственного значения.
А вот в Элладе все сложилось иначе. Открытой, незамкнутой стране не требовалось такого сложного государственного устройства, такой системы различных запретов и строжайшей регламентации. Культура эллинов эмоциональна, их отношение к любви поэтично, и недаром Эллада играла такую роль в последующем развитии общечеловеческой культуры. Эллада пленяет свежестью и полнотой чувств, и отношение к ней не может измениться...
Семь лет продолжались беспримерные странствия Баурджеда, казначея фараона Джедефры. Отважные путешественники были забыты теми, кто их послал на поиски неведомых земель, лежащих еще дальше страны Пунт, у берегов Великой Дуги. На смену Джедефре, убитому жрецами бога солнца Ра, пришел его брат, мрачный, жестокий фараон Хафра.
«Снова все силы Черной Земли были собраны для постройки второй гигантской пирамиды, подобной пирамиде Хуфу (Хеопса). Но и этого уже было мало для единого средоточения всей мощи государства, которое представлял собою фараон». Не довольствуясь сооружением пирамиды, он решил увековечить себя в образе гигантского сфинкса, вырубленного из цельной скалы.
Потому так холодно и подозрительно встретил Хафра некстати вернувшегося Баурджеда и, выслушав его рассказ о далеких странах, приказал уничтожить путевые записи, отправить его спутников на далекие окраины Та-Кем, а самому Баурджеду — забыть навсегда все, что он видел.
И когда верховный жрец Тота, древнего бога знания, письма и искусства, спрятал Баурджеда от глаз мстительного фараона в храме, путешественник отдал жрецу самое дорогое, что сберег для себя на память о сияющей дали Великой Дуги, — «плоский обломок камня, величиной с наконечник копья, с округлыми краями. Камень был тверд, чрезвычайно чист и прозрачен, и его голубовато-зеленый цвет был неописуемо радостен, светел и глубок, с теплым оттенком прозрачного вина».
Этот необыкновенный камень словно воплощает в себе познание красоты бесконечно многообразного мира, открывшегося Баурджеду, и становится символом свободных исканий разума. Вместе с тем чудесный камень служит и связующим звеном между обеими частями дилогии.
Все герои Ефремова, независимо от того, когда они живут и действуют, всегда обгоняют свое время. Наделенные ищущим, пытливым умом, они устремляются к новому и неизведанному, и в этом вечном поиске писатель видит назначение человека.
Поиск — самое радостное ощущение бытия. Отсюда весь прогресс, начиная с палеолита, когда уровень мозга определялся поиском пищи. Человеческий мозг не может не искать и всегда будет искать. Человек всегда будет стремиться к новому и не успокоится на достигнутом. Эстафета труда и мысли протягивается через длинную цепь веков. И как это, на первый взгляд, ни парадоксально, герои Ефремова, пришедшие к нам из древнего Египта, связаны незримыми нитями не только с палеонтологами и геологами из «Рассказов о необыкновенном», но и с людьми далекого будущего из «Туманности Андромеды». Все они искатели!
Обращаясь к давно минувшим временам, Ефремов не ограничивает свою задачу воссозданием застывшего исторического декорума, подробнейшими археологическими описаниями деталей обстановки и быта, как это делал в своих египетских романах Георг Эберс.
Главное в повести — изображение подвига человека, принесшего современникам новые знания и расширившего их представления о мире.
И, несмотря на приказ фараона «все забыть», «песня-сказание, порожденная душой народа, свободной в своей любви и ненависти, неподкупной в оценке совершившегося, прославляла его», Баурджеда, первого египтянина, достигшего Великой Дуги.
Чтобы подчеркнуть историческое значение похода к Великой Дуге, писатель предваряет рассказ о путешествии Баурджеда выразительными лаконичными зарисовками застойной, замкнутой жизни в стране, протянувшейся узкой полоской вдоль берегов Нила.
Автор отбирает самое характерное и существенное.
Возвышающийся на холме дворец фараона. Нильская долина, окаймленная красновато-желтой пустыней и на горизонте — изгибами огромных песчаных бугров. На переднем плане — лабиринт узких улиц, примыкающих к пристани Мемфиса, столицы Черной Земли. Плоские крыши глинобитных хижин и белые дома богачей, окруженные роскошными садами.
Пирамиды — исполинские знаки нерушимости и вечности царской власти — господствуют над мечтами, мыслями и поступками миллионов людей. Их строительство поглощает все государственные средства и высасывает из народа все его силы.
Многочисленные храмы с таинственными подземельями и полутемными святилищами, где выстроились рядами страшные, выкрашенные в черный и темно-красный цвет статуи звероподобных богов, возвеличивают богочеловека фараона и становятся ареной жестокой и затаенной борьбы разных жреческих каст за власть и влияние в государстве.
Верховный жрец Тота, носатого бога с головой ибиса, уговоривший фараона снарядить корабли для открытия новых земель, преследует только узко кастовые цели. Ему важно парализовать силу конкурирующей жреческой касты бога Ра и подчинить Джедефру своей воле. И хотя в руках жрецов сосредоточены накопленные веками знания, они хранятся мертвым грузом в тайниках храмов или используются для устрашения и подавления народа.
Узнав о гибели Баурджеда, принявшего участие в освобождении своих спутников, сосланных фараоном в каменоломни, старый жрец Мен-Кау-Тот цинично замечает: «Не ожидал я, что Баурджед окажется зачинщиком мятежа... Впрочем, он отдал нам все, что имел, исполнил свое назначение и более не был нужен. В великой тайне будем мы хранить все записанное. Будет открыто оно только тому властителю, которого найдем и направим по нашим путям».
Колорит времени создается прежде всего замедленно-спокойным ритмом повествования, введением в прямую и косвенную речь отрывков из переводов подлинных древнеегипетских текстов.
«Я сделался усталым, сердце мое следует дремоте!» — говорит фараон своим приближенным.
Вернувшись из путешествия, Баурджед восклицает: «Вот достигли мы родины; взята колотушка, вбит столб, носовой канат брошен. Скоро, о, скоро увидим тебя, благословенная река Хапи!»
Статуарность поз и угловатость жестов, свойственных жрецам и фараону, словно перенесены со скульптурных портретов и фресок эпохи Древнего царства.
За немногословным описанием внешности угадывается характер персонажа. У Мен-Кау-Тота — «тяжелый лоб, резкий выступ крупного носа, недобрый прищур смелых глаз».
Лицо фараона Джедефры всегда напряженно и неподвижно. Даже редкая благосклонная улыбка стоит ему как бы физических усилий. Еще при жизни он хочет походить на собственную надгробную статую. Своим словам он старается придать «тяжесть и прочность бронзы».
И фараоны уверены в незыблемости своей божественной власти. Страну Та-Кем окружают зыбучие пески пустыни. Выезд за пределы Черной Земли запрещен всем, кроме жрецов и вельмож. Потому фараонам не страшны никакие внешние влияния. Ничто не может внести смуту в умы «маленьких» египтян — «неджесов», и никогда не вернут себе свободу «живые убитые», как принято было называть военнопленных, обращенных в вечное рабство...
Но есть в Египте мужественные люди, побывавшие в дальних странах и усомнившиеся в справедливости вековечных порядков, установленных фараонами и жрецами. Таков Уахенеб, кормчий Баурджеда, — по существу, главный герой повести. Это он, перед тем как отправиться в дальнее плавание, ободряет своего господина: «Я маленький, сын простого человека, и мое дело повиноваться... Но я знаю — давно живет в народе мечта о богатом Пунте, стране, где никто не согнут страхом и голодом, где широка земля и множество деревьев со сладкими плодами... Нет больше страха, как погибнуть в дороге, но не будет и большей славы в веках, если проложить туда пути для сынов Черной Земли...»
Это он, Уахенеб, вместе со своими друзьями, не отступая перед опасностями, преодолевает во время семилетнего путешествия неисчислимые трудности и, когда заболевший Баурджед уже не в состоянии идти дальше, проникает южнее Пунта, в самые дебри Черной Африки.
Это он, Уахенеб, умудренный жизненным опытом странник, увидел воочию, что величайшие из пирамид — лишь жалкие холмики по сравнению с горой Килиманджаро, и убедился, что могущество фараонов не безгранично.
И этот человек возглавляет восстание рабов и «маленьких» египтян.
«Весь бедный народ, стонущий под пятой великой пирамиды, пойдет с нами, — говорит Уахенеб. — Мы разгоним воинов, уничтожим чиновников, разобьем дома больших людей...»
В отличие от Уахенеба, образ Баурджеда противоречив. Богач и вельможа, он скован кастовыми предрассудками, и, хотя путешествие неизмеримо расширило его кругозор и даже заставило усомниться в непогрешимости господствующих у него на родине порядков, он, сознавая правоту своего кормчего, отказывается возглавить мятеж.
«В своих скитаниях Баурджед узнал нужду, увидел величие человека в простых людях. Все это пошатнуло первоначальные воззрения знатного царедворца на жизнь. Но мятеж! Встать во главе грязных бедняков и рабов, вести их на столицу, на дворцы приближенных фараона, может быть на самого владыку... нет, это невозможно!»
Рассказ Баурджеда о своих странствиях занимает значительную часть повествования. Он врывается во дворец фараона, он будоражит страну Та-Кем, как порыв свежего морского ветра. И чем дальше развертывается рассказ о прекрасных заморских странах, тем мрачнее становится Хафра. Он отсылает всех приближенных и остается с путешественником наедине. А Баурджед чувствует себя «человеком из иного, огромного мира, что простирает свои пространства далеко за пределы Кемт. И перед ним, этим миром, вся роскошь дворца и грозная близость фараона не более как торжественная игра детей в старом и тесном отцовском доме...»
Описание путешествия не только красочно, но и чрезвычайно точно. И тут Ефремов верен себе: он выступает и как художник, и как ученый.
Рассказ ведется от третьего лица. Для того чтобы избежать затрудняющих изложение архаизмов и обычных для древних путешественников фантастических измышлений, автор как бы пересказывает от себя историю Баурджеда, тщательно отбирая наиболее достоверные факты. И тут на помощь ему приходят лоции Красного моря и Индийского океана у берегов Африки и многочисленные отчеты о морских и сухопутных экспедициях, совершенных средневековыми путешественниками, особенно арабами.
Верный психологический критерий выдержан на всем протяжении рассказа. Нигде не искажаются образные представления наивного египтянина, впервые столкнувшегося с непонятными ему явлениями природы, с неведомым ему доселе миром животных и растений. Баурджед все запоминает очень точно, но, не понимая сути вещей, передает свои впечатления в иносказательной форме.
Египтяне впервые встретились с китами:
«По пути видели черных рыб невероятной величины, превосходивших в несколько раз длину кораблей. Эти рыбы выставляли над поверхностью моря свои гладкие черные спины, похожие на острова из черного гранита, громко сопели, выбрасывая фонтаны воды, и разбивали воду чудовищными хвостами. Путешественники удалились от этих рыб со всей возможной скоростью. Крепкие корабли Та-Кем впервые показались им утлыми, ненадежными скорлупками».
А вот как описываются актинии:
«Красота подводных садов была волшебной. Десятки раз люди, очарованные небесно-голубым кустом или алым кружевом, бросались в воду и обламывали твердые, как камень, ветви или фестоны, обжигающие таинственным огнем. Но, вытащенные из воды, они мгновенно превращались на воздухе в серые или грязные обломки, теряя всю свою красоту. Желтые и светло-зеленые живые цветы, шевелившие длинными щупальцами между волшебными кустами, едва только их поднимали на судно, превращались в комки отвратительной слизи».
Путешественники достигают горы Килиманджаро и впервые видят лед:
«Со склонов горы сползали вниз, в долины, пласты необычайно холодного голубого камня. Этот камень был прозрачен и в руках превращался в воду, исчезая без следа».
Разумеется, Баурджед не приводит ни одного географического названия, но его описания настолько конкретны, что весь его путь от дельты Нила до реки Замбези легко проследить по современным картам.
Но самое главное, что вынес из своего путешествия казначей фараона и что дало ему возможность в новом свете увидеть свою страну, — это встречи с многочисленными племенами, населяющими далекие страны. Черные, коричневые и бронзовокожие люди нисколько не уступали египтянам ни умом, ни храбростью, ни красотой, ни чувством человеческого достоинства. Баурджед, воспитанный на презрительном пренебрежении ко всем народам, живущим за пределами Та-Кем, впервые видит в чужеземцах не потенциальных рабов, а таких же людей, как и он сам.
И когда фараон, выслушав его рассказ, спросил, много ли потребуется воинов, чтобы покорить все южные страны, и хороши ли будут вывезенные оттуда рабы, Баурджед с едва сдерживаемым негодованием ответил: «Южная земля так велика и людей там, как песка в западной пустыне, — все войско, весь народ Черной Земли растворился бы в ней, подобно горсти соли, брошенной в воду».
В «Путешествии Баурджеда» есть только одно место, где автор, прерывая нить повествования, обращается к читателям от своего имени и как бы предвосхищает тематику будущих своих произведений.
«Как ни был мудр Мен-Кау-Тот, как ни велик был подвиг Баурджеда, — пишет Ефремов, — разве могли они знать, что настанет время, когда путь из Белой Стены в страну духов будет совершаться беззаботными юношами по воздуху за время, недостаточное, чтобы выполнить обряд утреннего омовения; когда исчерпаются пределы мира на всей Земле, и люди, гораздо более могучие, чем страшные зверобоги Черной Земли, обратят свои помыслы к путям между звездами. Ничего этого не подозревала ограниченная мудрость древнего человека, и первый дальний поход по океану казался неповторимым, невероятным подвигом».
Плоский обломок камня, величиной с наконечник копья, необыкновенного голубовато-зеленого цвета, прозрачный и чистый, как морская волна... На нем рукою искусного мастера вырезаны три обнявшиеся мужские фигуры, а рядом — обнаженная девушка с печальным и гордым лицом.
«Стройные, мускулистые тела замерли в момент движения. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержанны. В центре могучий человек, выше двух стоявших по сторонам, широко раскинул руки на их плечи. По бокам его двое, вооруженных копьями, стояли с внимательно наклоненными головами. В их позах была напряженная бдительность воинов, готовых с уверенностью отразить любого врага».
Когда-то этот редкостным камень был привезен Баурджедом с берегов далекой африканской реки и принесен в дар богу Тоту. Гладкая, сверкающая, не тронутая резцом мастера поверхность этого камня как бы отражала сияющую даль Великий Дуги — безмерной широты мира, открывшегося Баурджеду.
Прошло две тысячи лет... На том же голубовато-зеленом камне теперь запечатлена глубина мира, постигнутая в людях много видевшим и много испытавшим художником.
Во второй части «Великой Дуги» — «На краю Ойкумены» — повествование развертывается в двух планах: приключения Пандиона в далеких, неведомых странах и его внутреннее созревание как человека и художника.
Перед читателем проходит пестрая географическая панорама. Уголок древней Греции, остров Крит, Средиземное море и вся «Пенная страна»,[42] начиная от рабовладельческого Египта и кончая экваториальными дебрями, где живут свободолюбивые негритянские племена.
Проведя Пандиона через многочисленные испытания, сталкивая его с разными людьми, знакомя с жизнью, культурой и искусством других народов, автор показывает молодого скульптора в непрерывном развитии и движении. Каждая новая встреча обогащает его внутренний мир, способствует духовному росту.
«На краю Ойкумены» — повесть о воспитании характера. В центре его человек, жадно ищущий и чутко воспринимающий все новое, что приносит ему жизнь.
Автор рецензии на французское издание этой книги ставит ее в один ряд с лучшими историческими романами, такими, как «Саламбо» Флобера и «Борьба за огонь» Рони-старшего. Идейное богатство и многотемность повести Ефремова, по мнению рецензента, выводят ее за рамки только юношеской литературы. «Если бы можно было резюмировать все творчество Ивана Ефремова, и в частности «На краю Ойкумены», в одной, почти математической формуле, — пишет критик, — мы сказали бы: это — научная фантастика, расширенная с помощью анализа исторической реальности» («Юманите», 11 октября 1960 г.).
Насыщенность повести историческими и географическими сведениями, многочисленными археологическими и этнографическими деталями нисколько не замедляет действия. Сюжет разворачивается как упругая пружина. Приключения, следующие одно за другим, вбирают в себя все новый и новый жизненный материал, преломляющийся в сознании Пандиона. Он словно проходит сквозь бесконечную анфиладу по-разному убранных и обставленных комнат и в каждой из них отбирает для себя и запоминает самое нужное.

Скульптура девушки из развалин Ахетатона
В городах Крита — Кноссе, Тилиссе, Элире — Пандион бродит по развалинам храмов и дворцов, изучает памятники крито-микенской культуры и произведения искусства, привезенные из далекого Айгюптоса (Египта). На Крите ему удается увидеть древнюю игру с быком, некогда распространенную в Греции. «Гибкий, проворный человек побеждал в бескровной борьбе быка — священное животное древних, воплощение воинственной мощи, тяжелой и грозной силы. Молниеносной быстроте животного противопоставлялась еще большая быстрота. Точность движений спасала человеку жизнь».
Позже, в лесах Нубии, во время охоты на исполинского носорога, которого надо было захватить живым (такова цена свободы, обещанной рабам фараона), Пандион, вспомнив один из приемов критской игры с быком, вскочил разъяренному носорогу на спину и набросил сеть на морду чудовища.
В Египте, став «мере» — наследственным рабом фараона, Пандион, посланный на разборку старинных храмов и гробниц, сталкивается с архитектурой и искусством таинственной страны Та-Кем.
«Одинаковые сфинксы, одинаковые колонны, стены, пилоны — все это с искусно отобранными скупыми деталями, прямоугольное, неподвижное. В темных проходах храмов исполинские однообразные статуи возвышались по обе стороны коридоров, зловещие и угрюмые... На стенах сами фараоны изображались в виде больших фигур. У их ног копошились карлики — все остальные люди Черной Земли. Так цари Айгюптоса пользовались любым поводом, чтобы подчеркнуть свое величие. Царям казалось, что, всячески унижая народ, они возвышаются сами, что так возрастает их влияние».
Невольно сравнивая дворцы фараонов и храмы богов с нищенскими лачугами простого народа, не говоря уже о «шене» — загонах для разноплеменных рабов, Пандион все яснее сознавал, что это холодное, подавляющее человека искусство во всем противоположно его идеалу красоты.
Показав Египет глазами вольнолюбивого эллина, познавшего отупляющий тяжкий труд раба, Ефремов посылает его в необыкновенное путешествие по Африке. И там его взору открываются бескрайние степи, поросшие жесткой травой выше пояса, непроходимые тропические леса, полные диковинных животных и растений.
Постепенно из многоцветных мозаичных кусков в сознании Пандиона складывается целостное зрительное представление: «Черное и белое во всей прямоте и четкой грубости этого сочетания — вот что составляло душу Африки, ее лицо, такое, каким Пандион сейчас почувствовал его. Черные и белые полосы необыкновенных лошадей, черная кожа туземцев, раскрашенная белой краской и оттенявшая белые зубы и белки глаз, изделия из черной и жемчужно-белой древесины, черные и белые колонны древесных стволов в лесах, свет степей и мрак лесных трущоб, черные скалы с белыми полосами кварца...»
Большое впечатление оставляют красочные сцены охоты на диких слонов, поединка людей с доисторическим чудовищем «гишу» — зверем, напоминающим гигантскую пятнистую пантеру, ритуальных негритянских танцев, охотничьего быта и т.д.
Писатель и здесь верен своему художественному методу. Он вплетает в ткань сюжета много интересных сведений о флоре и фауне, о жизни древних африканских племен, обладавших еще в незапамятные времена самобытной культурой, недооцененной даже прогрессивными европейскими писателями, всегда представлявшими африканских негров как жестоких первобытных дикарей. Решительно ломая эту дурную традицию старой приключенческой литературы, Ефремов видит у народов Черного материка не черты отсталости и дикости, а те лучшие человеческие качества, которые сближают их с другими народами.
«Одни искусны в охоте, другие племена — в мастерстве, или добывании металлов, или плавании... Хорошо бы нам учиться друг у друга, передавать знания. Тогда могущество людей быстро возросло бы!» — мечтает мудрый вождь племени повелителей слонов.
Ничего нет горше одиночества человека, оторванного от родины! Раб фараона, Пандион, понял свою беспомощность перед лицом деспотической власти. В мучительных испытаниях и непрерывной борьбе с превратностями судьбы он ищет и находит друзей.
«Люди объединились на почве общих тяжелых лишений, общего стремления к свободе: добиться освобождения, нанести удар слепой, угнетающей силе государства Черной Земли и вернуться к потерянной родине. Родина — это было понятно всем, хотя у одних она находилась за таинственными болотами юга, у других — за песками востока или запада, у третьих, как и у Пандиона, — за морем на севере».
Близкими его друзьями становятся могучий негр Кидого и суровый этрусский воин Кави. Они втроем возглавляют мятеж рабов и после кровопролитных схваток с египетской стражей уходят в пустыню. Последующие испытания — песчаная буря, новое пленение и расправа с восставшими рабами, охота на носорога и полное опасностей путешествие к бухте Южный Рог (Гвинейский залив) — еще больше укрепляют их дружбу.
Тема родины переплетается с темой дружбы, и обе они в значительной степени определяют идейное наполнение повести о приключениях молодого эллина, жившего три тысячи лет тому назад.
«Да, они настоящие братья, хотя одного носила такая же черная, как он сам, мать, здесь, под странными деревьями юга, другой лежал в колыбели в хижине, сотрясаемой злыми зимними бурями, а третий в это время уже воевал со свирепыми кочевниками дальних степей на берегу темного моря... Сердца их, сотни раз проверенные в общих невзгодах, сплелись тугими жилами, и как мало значило теперь различие их стран, лиц, тел и верований!»
Тема бескорыстной братской дружбы представителей разных народов, объединенных стремлением к свободе, бережно и любовно проносится Ефремовым через всю книгу. Идеи интернационализма, истоки которого автор находит в глубочайшей древности, делают эту повесть вполне современной.
Великий опыт жизни приводит Пандиона к осознанию могучей силы братской дружбы людей и делает его замечательным художником, обогнавшим на несколько столетий свое время.
Если в суровом и еще примитивном искусство Греции гомеровского периода преобладали плоскостные геометрические формы, то Пандион предвосхитил в своих исканиях и мастерстве искусство Эллады эпохи полного расцвета. Ефремов и здесь воспользовался правом художника наделить своего героя чертами психологии и сознания людей более поздней эпохи. Таким образом, и тема искусства раскрывается в исторической перспективе.
Но прежде чем Пандион научился воплощать живую красоту человеческого тела, он испытал много неудач и разочарований. Познав первые восторги творчества и трепетную нежность первой любви, он попытался передать в статуе образ своей возлюбленной, но получилась мертвая глиняная кукла. Внимательно изучив все доступные ему произведения греческого искусства, он с горечью убедился, что они не отвечают его представлениям о красоте. Следовательно, в Энниаде не было образцов, на которые он мог бы опереться, чтобы идти вперед.
Все, что он увидел на Крите, а позже в Египте, казалось ему по-своему совершенным, но лишенным дыхания жизни. И даже после многих лет рабства и скитаний, обогатив свои чувства и память вереницей незабываемых впечатлений, он не смог воплотить свой новый замысел — вырезать на голубом камне изображение его далекой возлюбленной Тессы.
Мучимый сомнениями, Пандион старался понять, в чем же заключается его ошибка, и неожиданно для себя пришел к великому открытию, наблюдая за грациозными движениями молодой негритянки, собиравшей виноград.
«В живом неподвижности быть не может. В живом и прекрасном теле нет никогда мертвой неподвижности, есть только покой, то есть мгновение остановки движения, закончившегося и готового смениться другим, противоположным. Если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне, тогда мертвое оживет».
Поняв и почувствовав это, Пандион создал на том же камне великолепную гемму, самое совершенное творение искусства его родины — Энниады, и, прощаясь навсегда со своим другом, этруском Кави, отдал ему зелено-голубой прозрачный камень — символ великой дружбы.
...История хранит много неразгаданных тайн.
В Эрмитаже, в одной из витрин с надписью «Антские погребения VII века, Среднее Приднепровье, река Рось», рядом с грубыми, изъеденными ржавчиной обломками ножей и копий, лежит гемма, выполненная с изумительным мастерством. На гладкой поверхности берилла выделяются четко вырезанные человеческие фигурки размером в мизинец...
Этот странный камень совершенно не соответствовал вещам, найденным в антском погребении. Как он мог туда попасть? И ученый-археолог, сотрудник Эрмитажа, ставит перед собой целый ряд вопросов.
Такие голубовато-зеленые бериллы чистейшей воды находятся только на юге Африки. Такие совершенные по выполнению геммы были характерны для Эллады эпохи расцвета, но такой твердый минерал, как берилл, требует алмазного резца, которого древние греки не имели. Кроме того, копья воинов, вырезанных на камне, не похожи ни на греческие, ни на египетские. И что совершенно непостижимо — братское объятие соединяет эллина с негром и этруском. Где и при каких обстоятельствах они могли встретиться? Кто, когда и где мог создать такую гемму?
И ученый, пытаясь проникнуть в эту неразрешимую загадку, строит свои предположения, которые затем и развертываются в сюжете самой повести.
Этот литературный прием позволяет писателю не только проследить судьбу африканского берилла от времени путешествия Баурджеда до наших дней, но и утвердить мысль о нетленности подлинных произведений искусства, которые всегда отражают жизнь, всегда устремлены в будущее и рождаются в борьбе со всем, что мешает росту нового.
Необъяснимый факт соединения элементов разных культур в одном произведении искусства представляет собой гипотезу, построенную, правда, не на естественнонаучном, а на историческом и археологическом материале. Сюжет повести — художественное обоснование гипотезы, сформулированной в прологе ученым сотрудником Эрмитажа.
Таким образом, «На краю Ойкумены» — книга не только историческая, но и научно-фантастическая.
В самом деле, мы привыкли относить к научной фантастике произведения, обращенные к будущему, рисующие более или менее отдаленные перспективы науки и техники. Но есть и такая группа повестей и романов, авторы которых пытаются восстановить в воображении картины геологического прошлого или давно минувших исторических эпох. И Жюль Верн, и Конан-Дойл, и Обручев, и многие другие авторы «воскрешали» таким образом вымерших чудовищ и сталкивали с ними первобытных людей.
В известных повестях Рони («Вамирех», «Борьба за огонь» и «Хищник-гигант»), в повести д'Эрвильи «Приключения доисторического мальчика» и в книгах современных авторов — Д. Ангелова «Когда человека не было», С. Писарева «Повесть о Манко Смелом» и других — действие происходит сто — сто пятьдесят тысяч лет тому назад.
Трудно такие произведения, сочетающие в себе научную основу с большим элементом домысла, вывести за пределы научно-фантастического жанра!
«Великая Дуга» Ефремова обращена, правда, не к столь далекому прошлому. Писатель пытается воссоздать стертые временем конкретно-исторические факты, используя для построения своей гипотезы преимущественно данные археологии, но больше всего опираясь на вымысел. Однако, при всей «методологической близости» к научной фантастике, «На краю Ойкумены», как и «Путешествие Баурджеда» значительно отличаются от «Рассказов о необыкновенном». В центре здесь — не загадочные явления природы и решение научной проблемы, а образы живых людей с индивидуальными характерами.
Вдохновенный, восторженный, чуткий Пандион показан, как мы уже говорили, в становлении и развитии. Его характер гибок и подвижен, душа открыта для потока впечатлений. Рядом с ним — прямодушный, всегда веселый богатырь негр Кидого и сдержанный, целеустремленный этруск Кави. В отличие от Пандиона, их характеры стабильны. Все трое дополняют друг друга. Каждый из них несет в себе черты своего народа, а в соединении они воплощают общечеловеческие качества «впередсмотрящих», свойственные лучшим людям всех эпох.
Немногими штрихами, но столь же выразительно очерчены и эпизодические персонажи.
Египтянин Яхмос — фаталист, для которого смерть была бы избавлением от мучений, но законы религии не позволяют ему наложить на себя руки. Мрачный египтянин, презирающий все народы, в гордом одиночестве несет кару за совершенные им преступления.
Старый вождь «повелителей слонов», как и лучший охотник на львов из другого негритянского племени, справедливы, умны, благородны, наделены высоким нравственным сознанием. Как не похожи они на карикатурных негритянских царьков, с которыми мы столько раз встречались на страницах знакомых с детства приключенческих романов!
Запоминаются и женские образы — верная и верящая Тесса, страстная и сдержанная Ирума. Их объединяет только большое и сильное чувство к Пандиону, но характеры у них совсем разные.
Дилогия Ефремова отмечена обычным в его творчестве сочетанием строгих научных данных с богатой фантазией. Точное воссоздание исторического, географического и этнографического колорита и... явно модернизированные образы героев. Казалось бы, одно противоречит другому. Но если задуматься над тем, как мало мы еще знаем о давно исчезнувших высоких культурах, сколько загадок еще таится под пластами времени, то понятно и совершенно оправдано стремление автора воскресить из небытия и по-своему осмыслить образы людей, представляющих эти древнейшие цивилизации.
Пробуждение народов Африки и их освобождение от колониального гнета — одна из наиболее волнующих страниц истории XX века. К этой Африке, борющейся, рвущей оковы, расправляющей свои могучие плечи, обращены взоры и сердце писателя. От ее древнейшей истории он переходит к событиям наших дней, откликаясь на самые животрепещущие вопросы.
В рассказах «Адское пламя» и «Афанеор, дочь Ахархеллена» переплетаются две темы — антивоенная и антиколониальная.
Два студента — индус Ауробиндо и зулус Инценга, жертвы расовой дискриминации, — вывезены из Южно-Африканского Союза вместе с сотнями других «цветных» на каторжные работы в Австралию. За девять месяцев их руками были проложены в пустыне Джибсона дороги и возведены странные бетонированные сооружения. Здесь строился полигон для испытания атомного оружия. Мишенью должен был стать маленький атолл в Тихом океане...
Заметив, что эти юноши сообразительнее остальных рабочих и, значит, могут раскрыть тайну секретного оружия, руководители строительства оставляют их на островке, на который через несколько часов должен обрушиться чудовищный атомный снаряд. Ауробиндо погибает, опаленный адским пламенем, а его друг Инценга, случайно уцелев, притворяется тяжело контуженным и благодаря этому получает свободу. Теперь целью его жизни становится разоблачение злобных замыслов врагов человечества.
В этом рассказе возрождается гуманистический мотив дружбы и солидарности людей разных национальностей, так сильно прозвучавший в повести «На краю Ойкумены». Ауробиндо и Инценга, прошедшие путь тяжких испытаний и сблизившиеся в совместной борьбе за человеческие права, — это Пандион и Кидого нашего времени. Ни преследования южноафриканских расистов, ни каторжный труд, ни даже само адское пламя не сломили вольнолюбивые души этих молодых людей.
Ослепший, оглохший, истерзанный Ауробиндо в последние минуты жизни думает не о себе, а о судьбах мира. «Гордая мысль, раз взлетевшая, не признавала никаких препятствий. Индус стал писать на песке свое завещание миру, не сознавая, что всплески волн непрерывно смывают написанные строчки. Призывая к себе человечество, Ауробиндо упорно писал, борясь со смертью, уже всползавшей вверх по его ногам...».
«Афанеор, дочь Ахархеллена» — рассказ о туарегах, одной из древнейших, малочисленных, вымирающих народностей Африки.
Подавляющее большинство туарегов живет в степях Судана, и только два племени — кель-ахаггар и кель-аджер — кочуют по Сахаре. Название «туареги» дано этому народу арабами, сами же они называют себя имошаг.
Большой знаток истории и культуры народов Африки, Ефремов, по-видимому, ставил перед собой первоначальной задачей рассказать о почти неизвестной у нас жизни и нравах этих гордых покорителей пустыни. Но, поскольку действие связано с современностью, писатель, естественно, не мог обойти молчанием тех событий, которые происходят ныне в Африке, и не придать рассказу ярко выраженного политического акцента. Поэтому молодой туарег Тирессуэн и его возлюбленная Афанеор представляют свой народ не только со стороны этнографической, но и выражают свободолюбивые стремления, свойственные ныне всем народам Африки, борющимся за независимость.
Быт туарегов и события, развертывающиеся в рассказе, показаны с двух точек зрения. Французы, исследователи Сахары, у которых Тирессуэн служит проводником, видят в нем только флегматичного сына пустыни, великолепно ориентирующегося в местности, и совершенно не подозревают, как глубок и сложен его внутренний мир. А Тирессуэн, в свою очередь, бесконечно далекий от интересов и побуждений французов, видит в них лишь «беспокойных и истеричных европейцев».
Французы полагают, что они знают о туарегах все: дикари, когда-то знаменитые разбойники и рабовладельцы, говорящие на никому не ведомом языке и владеющие древней тифинарской письменностью, они живут в сердце Сахары, сохраняют пережитки матриархата и упорно не поддаются «облагораживающему» влиянию цивилизации. Некоторые племена насчитывают лишь по нескольку десятков человек и обречены на вымирание. Поэтому, думает французский археолог Ванедж, пока не поздно, нужно изучить язык туарегов-тамашек и заняться сбором фольклора.
Но если бы тот же профессор Ванедж мог незримо присутствовать при разговоре своего проводника с Афанеор — из племени гарамантов, о которых упоминают еще эллинские мифы, — то он решительно изменил бы свое традиционное мнение о туарегах.
Умная и образованная девушка открыла Тирессуэну свою давнюю мечту. Рассказав ему легенду о русском враче Эль-Иссей-Эфе,[43] приезжавшем в страну туарегов более семидесяти лет назад и сумевшем завоевать суровые сердца кочевников, она умоляла его поехать в великую северную страну, где «живут люди, непохожие на других европейцев, но обладающие всей их мудростью, более добрые к чужим народам, которых они считают равными».
И тогда было бы выполнено завещание дочери Ахархеллена, могущественного вождя кель-аджеров, которая тоже носила имя Афанеор. Дочь вождя понимала, что «прежняя жизнь кончается, что народ туарегов не сможет вечно скрываться в пустыне, избегая культуры Запада. Но помочь в овладении этой культурой могли бы лишь та страна и тот народ, намерения которого чисты и бескорыстны, иначе вместе с чужой культурой придет гибель туарегов как народа.
Афанеор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Так же увлекла она и новую Афанеор».
Но французы, не подозревавшие, что мир Тирессуэна не замкнут горами Ахаггара, предлагают ему любые блага цивилизации, если он проведет их к развалинам древнего города, находящегося в центре гигантской безводной равнины Танезруфт. Ни деньги, ни Париж, ни Ницца не интересуют туарега. Он соглашается на это труднейшее дело, выставляя условием поездку в Россию.
«Туарег и Советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего Тирессуэна такое несуразное, а главное — настойчивое желание...» — недоумевает археолог.
Другой француз, знаток Сахары, отвечает ему:
«Идеи самоопределения народов разносятся по всей Африке не хуже чумы. Пришло время, и с этим ничего не поделаешь — знамение века. А умная политика Советов делает так, что все они смотрят туда... И вот вам самое убедительное доказательство — туарег!»
Центральное место в рассказе занимает история поездки Тирессуэна в Советский Союз и четырехдневного пребывания его в Ленинграде. Ефремов прибегает здесь к знакомому уже нам по его историческим повестям испытанному литературному приему — раскрытию мира через наивное, непосредственное восприятие героя.
В данном случае Тирессуэн, впервые покинувший пески Сахары, передает свои впечатления о явлениях и вещах, которые всем читателям превосходно известны. В восприятии туарега все озаряется каким-то необычным, почти сказочным светом. Следуя за ним по улицам города, по набережной Невы, по залам Эрмитажа, мы невольно переживаем заново свое детство, когда все окружающее кажется чудом. И этот правильно найденный писателем психологический ключ помогает ему сделать образ Тирессуэна таким убеждающе правдивым.
В Эрмитаже Тирессуэн поражен «нелепостью» изображений на множестве полотен, проходящих перед ним пестрой чередой.
«Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и рыхлыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то униженно валялись в ногах у свирепых владык, то объедались невероятным количеством пищи. Нередко на картинах размерами больше эхена, была изображена только пища — отвратительные груды зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлебы...».
Но, проходя по величественным мраморным залам с высокими окнами, выходящими на скованную льдами широкую реку, он почувствовал душу северной страны. «Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной... ».
Для Тирессуэна, мечтателя, хранящего в своей памяти старинные предания и легенды, самым близким и доступным оказался балет — сказка о девушках, превращенных злым волшебником в лебедей. А когда на следующий день «царица лебедей», встретившаяся ему в парке, предстала в облике простой и скромной девушки, туарег «понял все до конца».
Он понял, что эта холодная страна способна порождать в людях стремление к прекрасному, и, почувствовал удивительную близость к русским, которые «закалили тело и душу в морозной белизне севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары».
И Тирессуэн вернулся к своей Афанеор как вестник правоты и справедливости далекого русского народа. Обогащенные новыми чувствами и знаниями, он и его возлюбленная теперь уже не могли не быть с теми, кто поднялся на борьбу с черными замыслами французского правительства превратить Сахару в гигантский полигон для испытания атомных бомб.
Рассказ кончается почти символически.
«Два всадника на высоких, как башни, верблюдах стояли между черных скал, над проползавшей внизу вереницей броневиков».
Так Тирессуэн и Афанеор становятся на страже той Африки, которая близка сердцу писателя, близка всем нам, — Африки борющейся, рвущей оковы, расправляющей свои могучие плечи.
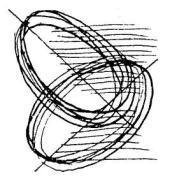 Глава пятая
Глава пятая|
|
,,Туманность
Андромеды" и традиции социально-утопической литературы. — Дистанция
времени, отделяющая нас от героев романа. — Земли будущего в изображении И.
Ефремова.— Великое Кольцо Миров.— Этический пафос романа. — Внутренние
конфликты, порожденные новыми общественными отношениями — Система воспитания. —
Любовь и дружба. — Дети и родители. — Остров Матерей. — Роль искусства. —
Эстетизация жизни. — Время как философская категория и как исторический
процесс. — Взгляд из будущего в прошлое.— Энциклопедичность романа.— ,,Cor
Serpentis (Сердце Змеи)" — своего рода эпилог ,,Туманности
Андромеды".
1957 год положил начало новому этапу в развитии научно-фантастической литературы и оказался для нее решающим рубежом. Конечно, это только случайности, что роман Ефремова «Туманность Андромеды» вышел в свет в том же году, когда был запущен первый искусственный спутник. Но в таком совпадении есть и какая-то закономерность. Ведь мировая наука давно уже начала готовиться к штурму космоса, а писатели-фантасты еще раньше приняли на вооружение идеи Циолковского!
Прорыв в космос был неслыханным доселе качественным и количественным скачком науки вперед.
Началась новая эра, которую философы, астрономы, математики сразу же назвали космической. За короткий промежуток времени в сознании людей произошли удивительные перемены. Раздвинулись границы мышления. Сложнейшие астрономические понятия из специальных научных трудов перешли на страницы газет.
Русское слово «спутник» стало международным, воплотив в себе все лучшее и передовое, что было создано страной Социализма.
Любопытно, что уже на следующий день после приземления космического корабля-спутника «Восток» Юрий Гагарин в беседе с журналистами назвал имя Ефремова среди своих любимых писателей, а в автобиографических очерках «Дорога в Космос» так оценил его роман: «...в библиотеке появилась новая книга — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, пронизанная историческим оптимизмом, верой о прогресс, в светлое коммунистическое будущее человечества. У себя в комнате мы читали ее по очереди. Книга нам понравилась. Она была значительней научно-фантастических повестей и романов, прочитанных в детстве. Нам полюбились красочные картины будущего, нарисованные в романе, нравились описания межзвездных путешествии, мы были согласны с писателем, что технический прогресс, достигнутый людьми спустя несколько тысяч лет, был бы немыслим без полной победы коммунизма на Земле».[44]
Несколько месяцев спустя Ю. Гагарин в статье «О любимых книгах» («В мире книг», 1961, № 8) еще раз обратился к этому роману: «Мне очень понравилась книга И. Ефремова «Туманность Андромеды», — писал он. — Автор посмотрел в будущее глазами ученого и художника, попытался первым всесторонне показать жизнь через тысячелетия, это само по себе уже интересно. Это книга о победе коммунизма, ее нельзя читать без волнения. И люди там интересные, и проблемы затронуты большие. А главное — вера в поступательное развитие общества».
Читая эти строки, мы невольно вспомнили наш давний разговор с писателем Леонидом Рахмановым по поводу «Туманности Андромеды».
— Будет не удивительно, — говорил Рахманов, — если жители других обитаемых миров познакомятся из всей земной литературы прежде всего с романами Ефремова. Наверняка в библиотечке первого звездного корабля найдутся его «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи»...
Это настольные книги всех влюбленных в космос и в космонавтику... Я не шучу, — добавил он, — это действительно так: Ефремов — властитель дум современной научной и технической молодежи...
Научная фантастика во все времена ее существования зависела от состояния научно-теоретических и инженерно-технических идей. Можно было бы проследить, как они преобразовывались и какой вид принимали в фантастических произведениях, создававшихся на протяжении нескольких столетий, от Фрэнсиса Бэкона и Кампанеллы до Эдгара По и Владимира Одоевского, от Жюля Верна и Уэллса до Лема и Ефремова.
Все помнят «Машину времени» Уэллса. Казалось бы, что общего может иметь с наукой эта сверхфантастическая идея? Но в действительности замысел романа родился не без влияния гипотез, выдвинутых в конце прошлого века теоретической физикой и математикой. Известный австрийский физик Л. Больцман пытался доказать математическим путем, что во Вселенной имеются области, где время движется в направлении, обратном нашему, а крупный американский астроном Саймон Ньюком высказал предположение о возможности создания геометрии четырех измерений, понимая под «четвертым измерением» время, которое он считал особым видом пространства. На Саймона Ньюкома, между прочим, и ссылается Путешественник во Времени.
В данном случае не имеет значения, правомерны ли эти гипотезы. Мы хотим только сказать, что даже несбыточная ни при каких условиях Машина времени не явилась на свет из головы Уэллса, как Минерва из головы Юпитера.
Новейшие теории физики, астрономии, биохимии выдвигают перед писателями разных стран сходные проблемы. Отправной точкой для построения фантастической гипотезы служат обычно какие-то реальные предпосылки, если даже они и преувеличиваются до неузнаваемости.
В фантастической литературе давно уже создана своеобразная «наука» о преодолении Времени — Пространства. Выводятся новые положения из теории относительности, используются представления о кривизне пространства, изыскиваются необыкновенные источники энергии, позволяющие астронавтам за минимальный промежуток времени преодолевать невообразимые расстояния и т.п.
Как ни абсурдны на первый взгляд многие фантастический идеи, но возникают они отнюдь не случайно. Опубликовано, допустим, сообщение об открытии античастиц. Не дожидаясь дальнейшей разработки проблемы, писатели изображают целые миры и галактики из антивещества. Ведутся лабораторные работы с биотоками, попадается роман, в котором биотоки мозга воздействуют на автоматическую систему управления звездолетом. Ученые еще не познали природу гравитации — а герои романов давно уже изобрели гравитационные двигатели и овладели силами тяготения.
Автор «Туманности Андромеды» по-своему истолковал важнейшие проблемы, давно уже занимающие воображение писателей-фантастов. Отталкиваясь от ведущих положений современной науки и пытаясь предусмотреть, к чему может привести их безграничное развитие в будущем, он наметил в своем романе далекие перспективы астронавтики, кибернетики, биохимии, медицины, с убеждающей силой показал победу человеческого Разума над косными силами мироздания, и прежде всего — над временем и пространством.
Но Ефремов не был бы в своей области новатором, если бы не подчинил замысел романа научно-материалистическим философским представлениям о законах природы и общества. Величайшие завоевания науки и техники будущего поставлены писателем в прямую зависимость от социального прогресса. Ефремов впервые попытался нарисовать широкую и разностороннюю картину высокоразвитого коммунистического общества, объединившего все человечество. И в этом его главная заслуга.
Мысль о полете человека в космос, на иные галактики тревожила воображение писателя-фантаста еще задолго до того, как был выведен на орбиту первый советский спутник. Но замысел романа стал созревать, когда Ефремов прочел подряд не менее двух десятков книг современных западных, особенно американских писателей, посвященных завоеванию космоса. «После этого, — пишет он, — у меня возникло отчетливое и настойчивое желание дать свою концепцию, свое художественное изображение будущего, противоположное трактовке этих книг, философски и социологически несостоятельных...
Всей этой фантастике, проникнутой мотивами гибели человечества в результате опустошительной борьбы миров или идеями защиты капитализма, охватившего будто бы всю Галактику на сотни тысяч лет, я хотел противопоставить мысль о дружеском контакте между различными космическими цивилизациями».[45]

Девушка из племени туарегов (прообраз Афанеор)
Таким образом, к разработке замысла «Туманности Андромеды» Ефремова подтолкнули и полемические побуждения. Ограниченность диапазона даже лучших произведений западных фантастов вызвана, естественно, тем, что им чужда — в подавляющем большинстве — идея общественного прогресса. Они чисто механически переносят в космос современную империалистическую идеологию, колониализм, агрессивную политику, классовое неравенство. Герои романов, заброшенные на далекие звездные миры и даже в иные галактики, ничем не отличаются от обыкновенного «среднего» американца наших дней, с его обуженным кругозором и стяжательскими инстинктами.
Духовной ущербностью и пессимизмом отмечены произведения даже таких талантливых писателей, как Рэй Бредбери, Исаак Азимов, Роберт Хайнлайн, Эдмонд Гамильтон и др.
Вот, к примеру, как изображает Гамильтон далекое будущее человечества. В его романе «Звездные короли» действие происходит через двести тысяч лет. Люди расселились по всей Галактике. Они достигли высочайших вершин научного и технического прогресса, но... по существу все противоречия эпохи империализма остались неизменными. Образована Средне-Галактическая империя, существует Лига Темных Миров, берущая начало от фашистской Германии, в созвездии Лиры утвердилось новое королевство. Заговоры, измены, подкупы, шпионаж, опустошительные войны, политические перевороты, подавление человеческой личности — вот что обещает своим читателям Гамильтон в бесконечно далеком будущем.
Самый распространенный в США журнал научной фантастики «Astounding Science Fiction» опубликовал повесть Брэдбери «Гори, колдун, гори!», в которой в чрезвычайно драматических тонах описывается всенародное избиение ученых, разрушение университетов, сожжение книг — как необходимая предпосылка для организации «простой жизни». Отсюда можно заключить, что все беды, вызванные социальными противоречиями капитализма, писатель хочет свалить на науку.
Даже такой серьезный американский фантаст, как И. Азимов, заглянув в грядущее (роман «Стальные пещеры»), не увидел там ничего, кроме донельзя перенаселенной Земли, людей, запертых в клетках многоэтажных домов, очень строго лимитированных площадью и едой, приготовляемой главным образом из искусственных дрожжей; людей, разделенных на сотни социальных групп с разными регламентами «возможностей».
Западные писатели проецируют в грядущие века не только капитализм — «вчерашний день» человечества, но и давно минувшее историческое прошлое.
Дикое впечатление оставляет рассказ Роберта Хайнлайна «Логика империи». Американцы, колонизовав Венеру, действуют хищническими методами первоначального накопления. Туда вывозятся с Земли обманутые вербовщиками обездоленные люди и гибнут в гнилых болотах под бичами надсмотрщиков. Беглые рабы, скрываясь в непроходимых зарослях, закладывают основы будущей цивилизации на Венере.
Элементы социальной сатиры смешаны в рассказе с удивительно наивным представлением об историческом процессе. История понимается как вечный круговорот событий: что было — то будет. К такому «открытию» буржуазные историки пришли еще в XIX веке. Подобная «концепция» продолжает существовать и поныне. Безысходное положение «завербованных» на Венеру по сути дела ничем не отличается от столь же плачевного положения рабов на постройке пирамид древнего Египта.
В рассказе Меррея Лейнстера «Отряд исследователей» некто Хайгенс живет в дремучих лесах на планете Лоррен Второй — в обществе гигантских прирученных медведей. Расставшись с ненавистной ему цивилизацией, Хайгенс, сам того не желая, «осваивает» для будущих колонистов девственные земли. И образ героя, и даже непроходимые леса на чужой планете — все напоминает старый приключенческий роман. Только враги «бледнолицего» пионера уже не индейцы, а химерические звери — «сфиксы».
Фантастика в подобных произведениях устремлена не вперед, а назад, не к будущему, а к прошлому.
И в этом есть своя закономерность, ибо буржуазные писатели вслед за философами-идеалистами проповедуют релятивизм, бессилие разума перед таинственной и непостижимой Вселенной, иллюзорность социального прогресса.
Несмотря на то что многие американские фантасты блестяще владеют сюжетным мастерством и умеют создавать острые психологические коллизии, их произведения, как правило, проникнуты глубочайшим пессимизмом.
Вот, например, как рисует облик грядущего Уильямсон, автор одного из типичных для американской фантастики рассказов.
...Безжизненное бетонное поле аэродрома. Здесь нет людей. Здесь царство злых машин. Молчат стальные чудовища — бомбардировщики. Хищно прижав короткие крылья, они требуют одного — наполнить их опустевшую утробу смертоносным грузом. Автоматически они нагружаются бомбами, автоматически поднимаются в воздух, бомбят и снова возвращаются. И снова берут груз, и снова уходят в воздух — и так до бесконечности. А вокруг давно уже все мертво и бомбить нечего. Но машины, однажды приведенные в действие, продолжают работать. И вновь, и вновь по заданному курсу несут смерть туда, где давно уже нет ничего, кроме изуродованной, оплавленной земли...
Рядом с такими мрачными, порою даже человеконенавистническими книгами «Туманность Андромеды» сверкает, как алмаз доброты.
Нельзя не согласиться с французским критиком Жаном Вердье, который писал в одной из своих статей, что в научной фантастике ныне господствуют два основных течения — русское и англо-американское («В защиту мира», 1957, декабрь).
Советские писатели, в отличие от буржуазных, устремляясь мечтою в будущее, связывают его не только с невиданным прогрессом науки и техники, но и с глубочайшими преобразованиями всей общественной жизни, в том числе и сознания человека. Передовые идеи марксизма-ленинизма, окрыляющие творчество наших писателей, придают их произведениям жизнеутверждающую, гуманистическую направленность.
Все это получило наиболее яркое и полное выражение в романе Ефремова «Туманность Андромеды».
Когда речь идет о значительном и тем более новаторском произведении, было бы неверно исходить при его оценке только из литературных традиции и влияний. Ведь всякий талантливый писатель, независимо от того, в каком жанре он работает и в какую эпоху переносит действие, прежде всего — сын своего века. «Конечно, написать фантастический роман, — утверждает Ефремов в той же статье, — не ставя перед собой никаких серьезных задач, можно и просто варьируя в разных сочетаниях находки и достижения прежних мастеров этого жанра. Но ведь писатель-фантаст, если он понастоящему работает в литературе, всегда стремится открыть нечто свое, сказать что-то новое «о времени и о себе».[46]
Вместе с тем совершенно очевидно, что такая книга, как «Туманность Андромеды», представляющая сплав социальных и научно-технических идей, не могла возникнуть на «пустом месте». Кроме большого опыта мировой научной фантастики, за плечами писателя — вековые традиции западноевропейского и русского утопического романа. Прежде чем начать разговор о «Туманности Андромеды», мы остановимся на тех социально-утопических произведениях, которые находились в поле зрения Ефремова и, по-видимому, оказали на него известное воздействие или перекликаются так или иначе с его романом.
На протяжении нескольких тысячелетий, еще со времен античного рабовладельческого строя, лучшие умы человечества мечтали о грядущем «золотом веке». На исходе средневековья — в эпоху Возрождения — появились первые коммунистические утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. Эти великие гуманисты грезили о таком государстве, где не будет нищеты, частной собственности, угнетения человека человеком. Но благородные идеи, изложенные в «Утопии» и «Государстве Солнца», не могли быть поняты и оценены современниками, — в ту эпоху почти безраздельно господствовала мертвящая церковная идеология.
Лишь после промышленного переворота в Англии и Великой буржуазной революции во Франции, когда уже в полной мере обнаружились вопиющие противоречия капиталистического строя, появились новые социально-утопические учения, которым суждено было стать одним из теоретических источников научного коммунизма.
И философская публицистика великих утопистов — Роберта Оуэна, Сен-Симона и Шарля Фурье, и созданные их последователями романы, вроде «Путешествия в Икарию» (1840) Этьена Кабе, сделавшего социально-утопические идеи достоянием широких масс, были лишь умозрительными попытками представить себе облик идеального общества. Гениальные догадки в этих произведениях (устранение противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, ликвидация уродливого разделения труда и т.п.) переплетаются с причудливыми, иногда совершенно нелепыми представлениями о «социальной гармонии», и в этой противоречивости идеи отражалась противоречивость положения и сознания пролетариата, еще не созревшего до понимания своих классовых интересов.
Только после появления «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса открылась реальная перспектива самого целесообразного переустройства мира. Представления о гармоническом обществе будущего наконец получили глубокое обоснование, а коммунизм из утопии превратился в науку.
Форма утопического романа могла теперь возродиться в новом качестве — либо оплодотворенной опытом революционной борьбы и идеями научного социализма (например, «Вести Ниоткуда» В. Морриса), либо творческими исканиями большого художественного таланта, сумевшего воспользоваться этим жанром для критики современного общественного устройства и выражения своих позитивных взглядов.
К таким писателям относится Герберт Уэллс, оказавший несомненное творческое воздействие на Ефремова.
«Мой роман, — пишет Ефремов, — полемизирует с некоторыми вещами Уэллса, особенно с его «Машиной времени», где нарисована пессимистическая картина «затухания» и обмельчания человечества. Конечно, с Уэллсом я не только полемизировал, но и учился у него мастерству, искусству фантастики. В частности, его роман «Люди как боги» (который я ценю у него больше других) явился своего рода «отправной точкой» для «Туманности Андромеды».[47]
«Люди как боги» — единственный из романов Уэллса, в котором писатель попытался пойти по следам своей мечты и нарисовать общество будущего в соответствии с собственными представлениями об идеальном устройстве мира.
Можно смело утверждать, что ни в одной другой книге Уэллса контрастность сопоставления реально существующего с желаемым не достигает такой резкости, как в этом романе, написанном в 1921 году непосредственно после первой поездки писателя в Россию.
Эмоциональное восприятие художника всегда вступало в вопиющее противоречие со всей системой социально-философских воззрений Уэллса, делавших для него невозможным понимание марксистской теории революции и классовой борьбы. Поэтому, нарисовав в романе «Люди как боги» картины нового мира, Уэллс поспешил оговориться, что, при существующем уровне культуры и сознания масс, социализм на Земле еще не может быть создан и, следовательно, идеальное устройство общества остается за пределами трех измерений, доступных человечеству.
Потому-то планета «четвертого измерения», на которую очень несложным способом попадает мистер Барнстепл с группой высокопоставленных соотечественников, и названа писателем «Утопией».
Уэллс представляет утопийцев создателями «просвещенного научного государства». Каждый из них «был бы в прежние дни поставлен в ряду выдающихся творческих умов». Деятельные, изобретательные люди, они «не нуждаются ни в управлении, ни в руководстве». Дух соперничества давно уже заменен у них созидательной разносторонней работой. Все отрасли знаний достигли блестящего расцвета.
После того как мир был очищен от сорных трав, ядовитых насекомых, гадов и прочих вредоносных существ, утопийцы начали «выпалывать и культивировать свой собственный род». И тут Уэллс призывает на помощь «евгенические начинания», которые будто бы помогли утопийцам достигнуть идеала «благородной человеческой красоты» — и телесной и духовной. Идеал сам по себе прекрасен, но способы его осуществления — искусственный отбор для создания безупречной наследственности и ограниченное деторождение — привязывают автора, хотел он того или нет, к социал-дарвинизму и даже мальтузианству.
К тому времени, когда сюда прибыли англичане, утопийцы умели уже читать мысли, постигли тайну «четвертого измерения» (Уэллс объясняет «переход», ссылаясь на теорию относительности Эйнштейна) и готовились к полетам на другие звездные миры. Однако о науке и технике утопийцев говорится не только бегло и неопределенно, но и вообще невозможно представить себе, как это все совмещается с патриархальной простотой жизни, напоминающей аркадскую идиллию.
И тем не менее, силой своего большого реалистического таланта, Уэллсу удалось гораздо ярче и убедительнее, нежели его многочисленным предшественникам, воплотить мечту о свободной ассоциации тружеников, в которой не может быть места лености, праздности и злобе.
«Наше правительство — это наше воспитание»; «Нет, Утопия не упразднила семью. Она возвеличила ее и расширила до таких пределов, что она охватила весь мир»,— говорят утопийцы. Такие удачные афоризмы разбросаны по всей книге.
И хотя ни один из утопийцев не наделен индивидуальным характером и все они одинаково голубые, собирательный образ идеального, по Уэллсу, человека решительно противостоит ограниченным твердолобым джентльменам, представляющим «высшее общество» Англии XX века.
Помимо отдельных, иногда очень тонких замечаний относительно разных сторон жизни утопийцев, якобы опередивших людей Земли по уровню развития на три тысячелетия, очень интересен и фантастический очерк истории этой планеты, пережившей свои «Темные века», «Век Открытий» и «Век Разрушения», прежде чем восторжествовала высшая справедливость.
Присутствие обыкновенных консервативных англичан в столь необыкновенном мире чистых человеческих отношений настойчиво напоминает о его условности и разрушает очарование иллюзии именно в те минуты, когда читателю больше всего хочется в нее поверить...
Сыны Альбиона тотчас же вошли во враждебные столкновения с утопийцами, и только «честный либерал» Барнстепл оказался способным почувствовать недостижимую красоту открывшейся ему жизни. Потому так грустно было Барнстеплу покидать прекрасные долины Утопии.
И вот он нехотя садится в свой старенький желтый автомобиль и возвращается по прежней дороге на грешную Землю — в мир привычных масштабов и измерений. В знак того, что он благополучно вернулся восвояси, он должен оставить на том месте, откуда начнется след колес, красный цветок, взятый из Утопии.
«Постояв с минуту в нерешительности, он оторвал один-единственный лепесток, положил его в карман, а большой сверкающий цветок осторожно опустил на середину колеи. Потом, с тяжелым сердцем, медленно отошел обратно к автомобилю и, стоя возле него, глядел на эту ослепительно блестящую красную звезду... Вдруг словно чья-то рука появилась на короткое мгновение и взяла цветок. Он исчез. Только столбик пыли покружился немного и рассеялся... Все было кончено».
Уэллс не верил, что такой сверкающий красный цветок распустится когда-нибудь на Земле, и это наложило печальную тень несбыточной мечты на идиллический мир, созданный его воображением.
Ограниченность утопии Уэллса почувствовал критик, напечатавший во французской буржуазной газете «Трибюн де насьон» (от 20 февраля 1959 г.) статью о романе советского писателя И. Ефремова.
Вот что сказано в этой статье:
«Туманность Андромеды» войдет в историю мировой литературы наравне с первыми романами Уэллса, тогда как большая часть современных научно-фантастических романов будет предана забвению... Вероятно, впервые научная фантастика показала свою способность интересоваться самим человеком и описывать новые условия его существования, новые конфликты... «Туманность Андромеды» представляет и другой интерес. Из нее мы видим, какова цель человеческого существования после того, как исчезнут опасность войны и экономическая борьба. Это не химерическая утопия «Господин Барнстепл у людей-богов», а прозорливое предвидение лучшего будущего».
Социально-утопическая тема получила свое развитие и в русской литературе.
Важнейшие вопросы государственного устройства и общественной жизни затрагивались во многих произведениях русских писателей. Первая оригинальная попытка в этом направлении была сделана В. Ф. Одоевским, уделившим главное внимание изображению научно-технического прогресса и совсем незначительное — социальным преобразованиям (роман «4338-й год. Петербургские письма». 1840).
Но подлинным родоначальником отечественной традиции социально-утопического романа стал, конечно, Н. Г. Чернышевский. Его роман «Что делать?» оказал влияние не только на формирование революционного сознания нескольких поколений передовых людей России, но и на развитие социальной фантастики в русской литературе.
Нарисованные в романе светлые картины будущего должны были, по замыслу писателя, вдохновить современников на освободительную борьбу. «Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести...» — призывал Чернышевский.
Он назвал своих героев «новыми людьми». Рахметов, Кирсанов, Вера Павловна служат олицетворением идеала человека грядущих дней, каким представлял его себе Чернышевский. И в этом, пожалуй, самая сильная, действенная сторона его романа.
Знаменитый «Четвертый сон Веры Павловны» — это воплощение не только социальных, но и научно-технических мечтаний. Чернышевский, в отличие от подавляющего большинства представителей домарксовского утопического социализма, не мыслил себе идеального общества без высокого развития науки и техники. В изображенной писателем социалистической России созидательный труд свободных и счастливых людей облегчают «умные» машины. Металл будущего — алюминий — заменяет в обиходе дерево и камень. Природа, преобразованная человеком, щедро отдает ему свои богатства.
«Но мы в центре пустыни?» — говорит пораженная Вера Павловна. «Да, в центре пустыни... С каждым годом люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг... У них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошения, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе...».
Все утописты, и в том числе Фурье, говорили о будущем как о красивой сказке, хотя и вдохновляющей умы, но бесконечно далекой от реальности. Чернышевский же первый заговорил о прекрасном будущем как о настоящей реальности, достижимой в соединенных усилиях людей. И в этом смысле великий революционер-демократ — непосредственный предшественник советских писателей-фантастов, разрабатывающих тему социального будущего.
Из утопий, созданных русскими писателями в начале XX века, мы остановимся только на романе А. Богданова «Красная звезда» (1908), который пользовался в свое время большой популярностью.
Философ, социолог, экономист, А. Богданов-Малиновский был профессиональным революционером, членом Центрального Комитета РСДРП. В годы реакции он стал последователем Маха и Авенариуса и выступил с антимарксистской теорией «эмпириомонизма», подвергнутой В. И. Лениным уничтожающей критике. Несмотря на идейные шатания Богданова, Владимир Ильич ценил его литературный талант и даже предложил ему однажды тему научно-фантастического романа, полезного для пролетариата: «Вот бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили Землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!»[48]
Роман «Красная звезда» оставил определенный след в истории как социальных утопий, так и научно-фантастической литературы в целом.
Русский революционер Леонид принимает предложение товарища по борьбе, носящего странное конспиративное имя Мэнни, вступить в тайное научное общество, которому «удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен и синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем».
Вскоре выясняется, что это научное общество функционирует не на Земле, а на... Марсе, и Леонид соглашается совершить путешествие в «этеронефе» на «красную звезду». Русский революционер показался марсианам самым подходящим человеком для установления первоначального контакта между двумя обитаемыми мирами.
Удивительное внешнее сходство марсиан и людей Земли, по мнению Богданова, объясняется едиными законами биологического развития. «Очевидно, — говорит он устами марсианского ученого, — число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; на планетах настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом».
Последовательно знакомясь со всеми новыми общественными институтами, Леонид посещает научные лаборатории, заводы, детские воспитательные учреждения, музеи, лечебницы, театры и т.д. и во всем этом видит осуществленный прекрасный мир, за который на Земле предстояло еще так долго и упорно бороться.
Леонид не ошибся, предполагая встретить на Марсе искусство, ставшее органической частью самой жизни, которую оно призвано украшать. Действительно, лучшие произведения живописи и скульптуры собраны в общественных зданиях. Музеи искусства являются научно-эстетическими центрами для изучения того, «как развивается человечество в его художественной деятельности». Памятники ставятся не великим людям, а великим делам и событиям, таким, например, как первая попытка марсиан достигнуть Земли, как уничтожение смертельных эпидемических болезней и т. п.
В своих представлениях о социалистическом обществе Богданов идет по пути великих утопистов прошлого, стараясь конкретизировать отдельные положения и воплотить их в образную форму. И в то же время он не смог до конца преодолеть ограниченность старых утопий. Марсиане у Богданова не отличаются такой широтой взглядов и разносторонностью интересов, такой душевной щедростью и жизнелюбием, как это свойственно, например, героям «Туманности Андромеды». Считая человека коммунистического будущего лишь «маленькой клеткой великого организма», Богданов заставляет его обуздывать личные желания и не давать полного простора индивидуальным склонностям, и это накладывает на изображенное им идеальное общество отпечаток аскетической суровости и даже какой-то жертвенности. Свободу действий каждого человека сдерживает добровольное самопринуждение.
Богданов отрицает возможность полной гармонии личного и общего: «Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясение жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием?.. Чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы».
В центре внимания писателя — извечная борьба человека со стихиями природы. Неблагоприятные климатические условия ставят перед марсианами первоочередную задачу — колонизовать какую-нибудь другую планету, ибо искусственное ограничение размножения (а такой выход предлагали некоторые ученые) расценивается как победа тех же самых слепых стихий.
«Нет! — говорят марсиане. — Сократить размножение — это последнее, на что мы бы решились; а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца».
Богданов выступает, таким образом, как решительный противник мальтузианства. Увлекательный сюжет романа, четко обрисованные характеры действующих лиц и необычные психологические конфликты способствовали успеху произведения, а многочисленные публицистические отступления только усиливали его политическую остроту. В романе содержатся, кстати сказать, и смелые научные прогнозы: относительно «материи с отрицательным знаком», использования атомной энергии, вычислительных машин, синтетических материалов и т.д. Впрочем, некоторые утверждения автора кажутся сейчас наивными. Так, изображая завод нового типа, он пишет: «Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков». И заводской грохот, и сотни работающих не соответствуют нынешним представлениям об автоматизированном промышленном предприятии.
Передвижение на «воздушных лодках» силою «радиирующей материи» позволяет достигнуть «скорости самого быстрого соколиного полета» — около 250 километров в час, и это кажется Леониду пределом мечтаний.
Мы не можем, конечно, забыть об идейных ошибках Богданова, отразившихся и в его утопическом романе. Но в целом это было смелое, страстное, революционное произведение. В мрачные годы столыпинской реакции писатель нарисовал живую и выразительную картину восторжествовавшего коммунистического строя. Перечитывая сейчас роман А. Богданова, убеждаешься, что он содержит много глубоких мыслей, непосредственно перекликающихся с научными прогнозами современных писателей-фантастов. Такова, в частности, идея «союза миров», осуществлению которой решают посвятить свою жизнь главные герои — землянин Леонид и марсианка Нэтти.
Великая Октябрьская революция приблизила к жизни далекую мечту. О грядущих днях коммунизма писал, воюя с мещанской рутиной, и такой крупнейший поэт, как Владимир Маяковский («Летающий пролетарий», «Клоп», «Баня» и др.), и почти забытые ныне писатели Я. Окунев в романе «Грядущий мир» (1923), В. Никольский в повести «Через тысячу лет» (1927) и другие. Но едва ли не первым социально-фантастическим произведением послеоктябрьской эпохи была повесть талантливого сибирского писателя Вивиана Итина «Страна Гонгури» (1922), переизданная впоследствии под заглавием «Открытие Риэля» (в книге того же автора «Высокий путь»).[49]
Написанная в свойственном тому времени экспрессивном стиле, с неясными композиционными контурами и нечетким сюжетом, она привлекает страстной верой автора в коммунистическое будущее.
В колчаковском застенке, в ожидании расстрела, проводит свою последнюю ночь молодой большевик Гелий. Он просит друга, старого врача, тоже пленника колчаковцев, погрузить его в гипнотический сон, чтобы еще раз увидеть прекрасную страну Гонгури, где он прежде так часто бывал в своих странных сновидениях. В это обрамление входит пространный рассказ Гелия о своей «второй жизни» на другой планете в образе гениального ученого Риэля.
Прошло 1920 лет после революции, преобразившей страну Гонгури. Планета похожа на сад. «Среди садов, на много миль друг от друга, поднимались громадные литые здания из блестящих разноцветных материалов, выстроенные художниками и потому всегда отличные друг от друга. Эти дворцы строились так, чтобы казаться гармоническим целым с природой. Я хочу сказать, что они должны были излучать горение художественной мысли, чтобы слиться с горизонтом равнин, гор или садов...».
Ученые Гонгури постигли физическую природу мирового тяготения. С тех пор как был открыт «онтэит» — «особый комплекс энергии веществ, стремящийся от массы»,— люди обрели силу циклопов. Они изменяли очертания материков, уничтожали и переносили горы, направляли реки в новые русла. Небо Гонгури бороздили дельфинообразные «онтэитовые» корабли, обладающие немыслимой скоростью. Межпланетные сообщения также осуществлялись с помощью «онтэита»: «Освобожденные от тяжести «победители пространства» всплывали до пределов тяготения, и тогда небольшого радиоактивного двигателя было достаточно, чтобы развить планетарную скорость и лететь в любом направлении».
С калейдоскопической быстротой сменяются, вытесняя друг друга, тревожные и пленительные видения, переданные с проникновенным мастерством зрелого художественного таланта. В этой маленькой повести нет ни одной стертой метафоры, ни одного слова, имеющего лишь служебное значение. Это — поэма в прозе.
На каждой странице можно найти подтверждение удивительной прозорливости В. Итина, который в суровые годы гражданской войны и разрухи увидел в неясных контурах будущего такие свершения человеческого гения, которые только сейчас, да и то еще в виде гипотез, становятся достоянием научной мысли. Это не только постижение природы времени и тяготения, но и такие более близкие задачи, как телевидение в масштабах космоса, как исследование всех соседних планет, как полная автоматизация производства и т.д.
Ученые страны Гонгури по-новому объясняют явления мировой энтропии. Один из них, Везилет, утверждает, что «поток жизни более безграничен, чем мы думали. С каждым взмахом маятника создаются, развиваются и умирают бесконечные бездны миров. Всегда и везде жизнь претворяет низшие, обесцененные формы энергии. Мир идет не к мертвому, безразличному пространству, всемирной пустыне, где нет даже миражей лучшего будущего, а к накоплению высшей силы».
На первый план автор выдвигает морально-этические и психологические конфликты. Хотя всем людям будущего ведомы «желанные страдания творчества», не каждый способен отказаться от личного честолюбия и тщеславия. Поэтому возникают некоторые противоречия между эгоистическими порывами небольшой группы выдающихся умов — гениальных ученых, художников и поэтов, живущих в древнем городе Лоэ-Лэлё, и всем остальным населением.
«Если бы ты остался у нас, — говорит Риэлю его отец Рунут, — ты не прятал бы своих мыслей, мы трудились бы вместе, и человечество приобрело идеи твоих изобретений и твоих открытий закономерно и безболезненно; но в Лоэ-Лэлё, с ее культами, празднествами, индивидуализмом и громадным гипнозом, ты был захвачен эгоистической страстью, более сильной, чем твоя воля».
Риэль делает великое открытие — находит способ преобразовывать мельчайшие частицы энергии в световые волны и «наблюдать эфемерные мимолетные явления, замедляя их, замедляя само время». И первые же наблюдения заставляют его сделать вывод, что «жизнь насыщает мертвое вещество, повторяясь в однообразных формах».
Переведя крамольер своего аппарата, он улавливает одну из планет маленькой желтой звезды. Это Земля. Риэль наблюдает на ней эволюцию жизни, смену веков и общественных формаций, хаос войн и разрушений, тиранию жестоких властителей и страдания народов. А потом он видит то, за что сражался и должен был погибнуть Гелий: революцию и рождение нового мира.
И тогда Риэль убедился в бесконечном повторении циклов жизни. То, что увидел он на Земле, было и в далеком прошлом Гонгури. Потрясенный единообразием законов времени и пространства, полубезумный Риэль хочет постичь теперь самого себя в вечной смене существований. Он думает, что эту тайну откроет ему смерть. Он принимает яд и, умирая, слышит осуждающие слова Везилета:
«Риэль, бедный Риэль, он не знает, что самоубийство не может раскрыть ни одной тайны...».
Смерть Риэля — пробуждение Гелия. Ночь кончилась. За молодым революционером приходят палачи. Сияющим утром ведут его к берегу голубого Енисея, он слышит, как за спиной лязгают затворы винтовок. Гелий готов мужественно встретить смерть во имя жизни на Земле — может быть, еще более прекрасной, чем жизнь в стране Гонгури...
Если В. Итин в своей повести, написанной в годы гражданской войны, в состоянии был создать только умозрительную картину совершенного общественного строя, то в годы первой пятилетки писатели, выступавшие с произведениями на ту же тему, могли уже использовать накопившийся опыт социалистического строительства и осмыслить его в свете дальнейших перспектив развития нашего общества.
Э. Зеликович, автор романа «Следующий мир» (1930), вслед за Уэллсом и под его непосредственным влиянием, перенес своих героев в мир «четвертого измерения», на одну из планет, заселенных высокоразумными существами, во всем подобными людям. Но, в отличие от Уэллса, советский писатель преисполнен уверенности, что нарисованная им всесторонняя картина идеальной общественной организации — не утопия, а предвидимое будущее человечества.
Несмотря на то что тема решается порою очень прямолинейно, многие оценки кажутся плакатными и отдают вульгарным социологизмом, роман этот даже и сейчас представляет известный интерес. Автору удалось подробно и местами очень убедительно рассказать о новой совершенной технике (полная автоматизация производства), о быте, нравах, морали, искусстве людей, живущих по принципу «свободное творчество при неограниченном пользовании для всех всеми общественными благами».
Автор подробно разработал и достаточно серьезно аргументировал идею о закономерностях биологической и социальной эволюции. По его мнению, «закон эволюции для всех планет един, как для животно-растительных царств, так и для прогресса разумных существ, начиная от уровня развития дикаря и вплоть до степени нашей культуры, а также, по-видимому, и дальше». Иными словами, биологическая эволюция непременно приводит к разумному существу, имеющему человеческий облик, а эволюция социальная — к наиболее совершенному общественному строю — коммунизму.
Вместе с тем в романе Э. Зеликовича, как и во многих других социально-фантастических произведениях первого периода существования Советского государства (например, «Борьба в эфире» А. Беляева), недостаточно продуман важнейший вопрос — о месте и роли общественно необходимого труда в жизни людей будущего. Автор полагает, что сверхизобилие материальных благ может создать своего рода «безработицу». Но если бы даже это было так. то тем более нелогичным кажется утверждение об отсутствии в этих условиях какого бы то ни было учета и координационных центров.
Проникнута горячей верой в безграничные возможности свободного созидательного труда и повесть Я. Ларри «Страна счастливых» (1931). Писатель попробовал домыслить начавшийся гигантский процесс переустройства мира и представить социализм в состоянии полного расцвета. По существу, речь идет о коммунистическом строе: государство ликвидировано, экономикой страны руководит выборный «Совет ста», вся общественная жизнь сосредоточена в добровольных обществах (клубы, редакции газет и т.д.). Люди давно уже избавлены от материальных забот, каждый владеет несколькими профессиями и имеет достаточно времени, чтобы отдаваться своему любимому делу. Автору кажется, что изобилие материальных благ позволит свести общественно необходимый труд... к пяти часам в неделю!
Сейчас эта книга кажется очень наивной, хотя бы даже потому, что Я. Ларри изолирует социалистическую республику от всего остального мира, а в своих представлениях о «победе над Вселенной» не идет дальше полетов на Луну. Впрочем, в некоторых моментах он предвосхищает фантастические гипотезы писателей наших дней. Задолго до А. Казанцева (см. его повесть «Планета бурь») он «разработал» теорию внеземного происхождения людей.
«Я лично больше всего верю в то, — говорит герой повести Павел Стельмах, — что человек родился в космосе и колыбелью человечества была иная планета, о которой мы ничего не знаем».
А дальше следует подробная аргументация с многочисленными ссылками на древние мифы и легенды о богах, пришедших к людям с неба, и о «возвращении» людей на другие планеты (перуанская легенда о Манго-Гуэлла, сказание об Атлантиде, миф о Дедале и Икаре, рассказ Гераклита о его знакомстве с жителем луны Арабисом, монгольские, китайские, индийские, вавилонские предания и т.п.). Все это по мнению автора, «деформированные воспоминания о событиях, которые случились миллионы лет тому назад».
Названными произведениями, по сути дела, и исчерпывается советская социальная фантастика первых десятилетий. На протяжении четверти века — после появления повести Я. Ларри и до «Туманности Андромеды» — не было опубликовано ни одного сколько-нибудь значительного «комплексного» художественного произведения о социальном будущем.
Произошло это потому, что в условиях культа личности возможности философской мысли были чрезвычайно ограничены: «предвидеть» близкое и далекое будущее мог позволить себе только Сталин. Кроме того, в тревожной обстановке назревания Второй мировой войны, в военные годы и в годы восстановления народного хозяйства социальная фантастика «дальнего прицела» многим представлялась несвоевременной и даже вредной. И хотя тема восторжествовавшего коммунизма присутствовала в некоторых научно-фантастических романах, но лишь в качестве общего фона для изображения научных открытий и достижений техники.
Так было и в поздних, наименее удачных романах талантливого фантаста А. Беляева («Лаборатория Дубльвэ». «Под небом Арктики» и отчасти «Звезда КЭЦ»), и в произведениях других советских писателей, которые пытались заглянуть на несколько десятилетий вперед и перенести своих героев в условия только что сложившегося коммунистического строя. Но как ни увлекателен сюжет «Арктании» Г. Гребнева, как ни величественна картина грандиозного строительства и переделки климата Арктики в романах Г. Адамова «Изгнание владыки» и А. Казанцева «Полярная мечта», — эти авторы не ставили, да и не могли в силу указанных причин поставить своей главной целью изображение новых психологических и нравственных качеств человека будущего.
Только в середине пятидесятых годов, вслед за XX съездом КПСС, наметившим перед нашим народом грандиозную задачу постепенного перехода от социализма к коммунизму, в новой обстановке, благоприятствовавшей выдвижению смелых и еще не решенных вопросов социального будущего, И. Ефремов смог обратиться к разработке чрезвычайно сложной темы «Туманности Андромеды». По сравнению со своими предшественниками, он не только продвинулся гораздо дальше, но и создал первый в советской литературе многоплановый социально-фантастический роман о коммунистическом обществе всей Земли.
...Звездолет «Тантра» несется по беспредельному океану космоса со скоростью, приближающейся к световому порогу. Бесшумно работают анамезонные двигатели, отбрасывая струю непостижимо яркого, вихрящегося пламени. На пульте управления мигают разноцветными огоньками шкалы электронных приборов. Мерное гудение счетчиков сливается в причудливую мелодию. Отражательные экраны открывают обзор черной бездны. Бесчисленные звезды вспыхивают пронзительными иглами слепящих огней. Расстояние до Земли — полтора парсека[50] — пятьдесят биллионов километров.
Экипаж корабля погружен в гипнотический сон. Бодрствуют только двое — командир звездолета Эрг Hoop и астронавигатор Низа Крит...
Нечто подобное мы встречали десятки раз в романах, посвященных завоеванию космоса: детальное описание изумительной техники будущего, перенесение в межзвездное пространство «классических» приемов приключенческой беллетристики.
Но не будем спешить с выводами. Уже первые реплики героев вводят нас в мир необычных отношений и чувств. Читатель узнает, что «Тридцать седьмая звездная экспедиция» была направлена на единственную населенную планету в созвездии Змееносца — Зирду. Она давно говорила с Землей и другими мирами по Великому Кольцу, но внезапно замолчала, и молчание длилось более семидесяти лет. «Долг Земли, как ближайшей к Зирде планеты Кольца, был — выяснить, что случилось».
Итак, перед нами сразу же возникают представления о долге людей Земли перед братьями по разуму, связанными Великим Кольцом Миров.
Еще несколько страниц — и читатель убеждается, что экипаж «Тантры» и те, кто послал его в этот безмерно трудный полет, — отнюдь не шаблонные персонажи фантастических романов, перенесенные в даль веков из нашего времени, а люди совершенно иной формации, иного склада мыслей и чувств. А раз так, то и на Земле должны были сложиться новые общественные отношения, при которых не могло бы случиться того, что произошло на Зирде.
А на Зирде произошло вот что.
Не вняв предупреждениям Великого Кольца об опасности опытов с частично распадающимся атомным горючим, обитатели планеты убили все живое и самих себя. Столетиями незаметно накапливались биодозы облучения, разрушающие наследственность, прекращающие воспроизведение потомства, вызывающие лучевые эпидемии.
Перед посланцами Земли открылось потрясающее зрелище:
«Заросли черных маков протянулись на тысячи километров, заменив собою все — леса, кустарники, тростники, травы. Как ребра громадных скелетов, виднелись среди черного ковра улицы городов, красными ранами ржавели железные конструкции. Нигде ни живого существа, ни деревца — только одни-единственные черные маки!»
Эти зловещие растения оказались той единственной жизненной формой, которая устояла против радиоактивности и дала под ее влиянием жизнеспособную мутацию...
Превосходно написанная картина! Но это не отвлеченная фантастика, знакомая по другим книгам, не просто игра воображения. С самого начала автор напоминает нам об исторических событиях и политических проблемах, волнующих каждого из нас, читателей «Туманности Андромеды».
Но как же реагируют Эрг Hoop и его товарищи на гибель Зирды? Великая человеческая скорбь сменяется в их душах уверенностью в конечном торжестве созидательного начала. Ведь подобные случаи уже были известны Великому Кольцу. Погибла таким же образом и планета лилового солнца Альграб, находящаяся в сорока шести парсеках от Земли, но Совет Звездоплавания решил позаботиться о ее дальнейшей судьбе. Потому-то такой уверенностью и проникнуты слова Эрг Ноора: «Звезда не погибла, и планета цела. Не пройдет и одного века, как мы засеем и заселим ее».
Читатель, конечно, помнит, что «Тантра», не сумев пополнить запасы горючего — анамезона, попала в поле чудовищно сильного притяжения железной звезды. Началась титаническая борьба людей непреоборимой воли, вооруженных огромными знаниями и блистательной техникой, с косными силами материи...
А если бы им и не удалось пополнить запасы горючего и вырваться из плена железной звезды, они все равно не потеряли бы надежду на спасение. Ведь Земля неустанно следила за полетом Эрг Ноора и в случае опасности готова была выслать на помощь новую звездную экспедицию.
Какой же должна была стать Земля, если ее люди способны были на такие свершения? Именно этой теме — изображению жизни на Земле в эпоху высшего расцвета коммунистического строя — и посвящен роман Ефремова, а все, связанное с космическими путешествиями и приключениями звездоплавателей, имеет лишь второстепенное значение. Поэтому мы оставим пока Эрг Ноора и его спутников на планете мрака и посмотрим, как живут и что делают на Земле наши отдаленные потомки — люди XXX века.
Впрочем, время действия точно не обозначено. О нем можно только догадываться. Трудно вообразить, каким будет в действительности столь отдаленное будущее. При таком полете фантазии почти невозможно отделить более правдоподобное от менее вероятного. Важна здесь общая философская концепция, которая опирается на марксистско-ленинское понимание исторических закономерностей общественного и научного прогресса.
Сам автор в послесловии к журнальной публикации романа признается, что в процессе работы он несколько раз сокращал дистанцию, отделяющую нас от времени действия романа. Четыре тысячи лет, три тысячи, две... Запуск искусственных спутников показал Ефремову, что сроки воплощения его мечты могут быть еще более приближены.
Следует учитывать, что наука развивается сейчас даже не в геометрической прогрессии, а стремительно взлетает по так называемой «экспоненциальной кривой». Это значит, что, в отличие от геометрической прогрессии, где каждая последующая цифра получается из предыдущей умножением на постоянное число, в новом неслыханном нарастании каждое последующее число будет получаться из предыдущего путем возведения в степень (2, 4, 16, 256, 65 536 и т.д.). По мнению ученых, этот новый революционный взрыв науки наметился после расщепления атомного ядра и особенно — после проникновения в космос.
Так какие же возможности откроет человечеству наука, когда исчезнут все препятствия, мешающие его слиянию в одну всепланетную семью!
«...Думается мне, — пишет Ефремов, — что мы еще очень слабо представляем себе все то беспредельное могущество, которое даст человечеству коммунистическое общество всей планеты, когда окончатся нелепейшие траты гигантских сил на военные приготовления.
Конечно, нельзя впадать и в другую крайность и представлять себе, что путь будет легок и усыпан только розами. Очень много сложных проблем стоит перед человечеством, тем более сложных, чем выше будет организация общества. И главнейшая из них — это формирование нового человека с новым сознанием, чьи индивидуальные желания почти никогда не разойдутся с нуждами общества. И все же теперь думается: а почему бы событиям, описанным в «Туманности Андромеды», не совершиться не через тысячелетия, а значительно раньше?»
Следовательно, нет никакой необходимости думать, что изображенные Ефремовым завоевания человеческого гения могут быть отнесены лишь к XXX веку. Это дата приблизительная, условная. Есть все основания предполагать, что и социальный прогресс будет нарастать в стремительном темпе, и во многом это зависит от нас самих, людей, живущих во второй половине XX, Ленинского века!
Задумываясь о будущем, каждый создает себе воображаемый облик Земли, перепаханной доброй волей человечества, построенной на наиболее гармонических и совершенных началах. Эту мечту воплотил в своем романе Ефремов.
Образное мышление художника, логический анализ ученого и широта обобщений, свойственная мыслителю, помогли ему положить в основу «Туманности Андромеды» хорошо продуманные и тщательно мотивированные представления о новом общественном устройстве. И надо отдать писателю должное — нарисованное им эпическое полотно получилось достаточно выразительным.
Все силы природы поставлены на службу человеку. «Земля избавлена от ужасов голода, заразных болезней, вредных животных, спасено от истощения топлива, нехватки важных химических элементов...». Благодаря всему этому и поразительным успехам медицины продолжительность жизни человека достигла почти двухсот лет и — самое главное — исчезла изнурительная, тлеющая старость.
Давно уже осуществлено полное перераспределение жилых и промышленных зон планеты. Поселения непрерывной цепью протянулись в северном и южном полушарии вдоль тридцатого градуса широты. Люди сосредоточились преимущественно у берегов теплых морей, в зоне мягкого климата. К северу — гигантская зона лугов и степей с бесчисленными стадами домашних животных. В тропиках производство растительного питания и древесины. Сухие и жаркие пустыни давно уже превращены в вечнозеленые сады.
Преобразован климат. Ослабли ураганы и вихри. Вода в океанах поднялась на семь метров. До шестидесятых параллелей дошли южные теплые степи. Вечные «диэлектрические насосы» помогли обводнить даже высокогорные пустыни Азии. Над полярными областями зажжены искусственные солнца. Антарктический материк, на три четверти освобожденный от льда, оказался рудной сокровищницей и превратился в цветущую страну. Атмосфера очищена от излишков углекислоты, накопившейся от безрассудного сжигания угля, нефти и лесов в далеком прошлом. «Полная автоматизация всех заводов и энергостанций сделала ненужным строительство при них городов или больших селений».
Земной шар связан единой энергетической системой, спиралями электрических дорог, охвачен кольцом искусственных спутников — форпостов Земли, выдвинутых в космос. Ближайшие планеты — Венера, Марс, Меркурий, не говоря уже о Луне, — полностью освоены.
Планетолеты, работающие на фотонных или ионных зарядах, совершают регулярные рейсы в пределах солнечной системы, а в бездонные глубины Вселенной проникают могучие корабли звездных экспедиций.
Путь, пройденный человеком в пространстве, измеряется парсеками. Счет времени ведется по земным независимым часам, которые соотносятся в космосе с зависимым временем. Передача информации по Великому Кольцу населенных миров ведется по галактическим часам — каждую стотысячную галактической секунды, или раз в восемь дней.
Давно уже выработан всемирный общечеловеческий язык. Постепенно стираются этнические и национальные различия. В великом смешении рас и народов образовалась единая семья планеты. Отошли в область преданий государственные границы и последние остатки учреждений, созданных в незапамятные времена для поддержания власти и «порядка». Давно уже введена тщательно продуманная система, организующая и направляющая на добровольных началах разума и сознательной дисциплины творческую энергию всего населения Земли.
В центре — Совет Экономики, «переводящий все на почву реальных возможностей общественного организма и его объективных законов». Его консультативные органы: Академия Горя и Радости, Академия Производительных Сил, Академия Стохастики и Предсказания Будущего, Академия Психофизиологии Труда, Академия Пределов Знания.
Совет Экономики связан с самостоятельно действующим Советом Звездоплавания. От него прямые нити — к Академии Направленных Излучений и внешним станциям Великого Кольца.
Контроль Чести и Права, наблюдающий за судьбою каждого человека, в случае нарушения установленных норм поведения, оправдывает или осуждает виновного.
Некоторые из этих названий кажутся надуманными, но мысль автора ясна. Он хочет сказать, что организация всей общественной жизни основана на принципах сугубой добровольности, безусловного доверия и высокой сознательности, исключающих какое бы то ни было принуждение и насилие над свободной волей. «В незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя. Но не теперь!»
В высшей степени примечательна лекция Веды Конг, историка Древнего мира, переданная по Великому Кольцу для населения планеты Росс 614 в созвездии Единорога.
Стоя перед экраном обсерватории внешних станций, она сжато и ясно рассказывает далеким братьям по разуму об историческом пути человечества. Но не истребительные войны и ужасные страдания, не вражда и противоречия, разделявшие в глубокой древности страны и народы, стали главной темой ее сообщения. «Гораздо важнее была противоречивая история развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечество. Развитие потребности созидания и новых представлений о мире и общественных отношениях, долге, правах и счастье человека, из которого выросло и расцвело на всей планете могучее дерево коммунистического общества».
Рассказывая, как сменялись на Земле исторические эпохи, Веда Конг раскрывает диалектически противоречивый ход истории, осмысленной и осознанной наукой ее времени. Отсюда происходит новая периодизация, выразительные названия, содержащие характеристику предшествующих эпох: эра Разобщенного Мира, в которую входят Античные века, Темные века или века Капитализма; затем век Расщепления, когда весь мир раскололся на два лагеря с различными экономическими устройствами и когда открытие первых видов атомной энергии едва не привело все человечество к крупнейшей катастрофе. Далее, в соответствии с этой произвольной, но вполне оправданной замыслом романа периодизацией, началась эра Мирового Воссоединения, состоявшая из веков Союза Стран, Разных Языков, Борьбы за Энергию и Общего Языка. Это была эпоха формирования нового общества на всей планете.
Общественное развитие убыстрялось с каждым новым веком, и власть человека над природой росла гигантскими шагами. По мере того как изживались пороки и предрассудки, унаследованные от прошлого, вдохновенный творческий труд стал естественной потребностью людей, преобразил не только Землю, но и самого человека.
Через весь роман проходит лейтмотивом эта важнейшая тема, определяющая развитие сюжета. Она выражена в следующих словах Веды Конг:
«В древних утопических фантазиях о прекрасном будущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обещали, что за короткий труд — два-три часа на общее благо — человечество сможет обеспечить себя всем необходимым, а в остальное время предаваться счастливому ничегонеделанию.
Эти представления возникли из отвращения к тяжелому и вынужденному труду древности.
Скоро люди поняли, что труд — счастье так же, как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врожденным способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся, — вот что нужно человеку. Развитие кибернетики — техники автоматического управления, широкое образование и интеллигентность, отличное физическое воспитание каждого человека позволили менять профессии, быстро овладевать другими и без конца разнообразить трудовую деятельность, находя в ней все большее удовлетворение. Все шире развивавшаяся наука охватила всю человеческую жизнь, и творческие радости открывателя новых тайн природы стали доступны огромному числу людей. Искусство взяло на себя очень большую долю в деле общественного воспитания и устройства жизни».
И Веда Конг, «обретя силу всех поколений земных людей», с гордостью за своих современников заканчивает передачу взволнованными и вдохновенными словами:
«Такова наша история, трудная, сложная и долгая дорога восхождения к высотам знания. Мы зовем вас, — сливайтесь с нами в Великом Кольце, чтобы нести во все концы необъятной вселенной могучую силу разума, побеждая косную неживую материю!»
Вера писателя в беспредельное могущество человека, прозвучавшая с такой силой в заключительных словах Веды Конг, получила воплощение в грандиозной фантастической идее Великого Кольца Миров.
Еще за пять-шесть столетий до начала действия романа выдающиеся ученые планеты «пытались разрешить проблему передачи и приема изображений, звуков и энергии на космические расстояния». Они не сомневались, что в потоке излучений созвездий и галактик, доходивших до Земли, были сигналы и призывы, посланные разумными существами других миров. Но прием этих сигналов затрудняла ионизированная атмосфера.
Наконец индийский ученый Кам Амат вынес опыты на искусственные спутники, находящиеся далеко за пределами земной атмосферы.
Впервые была уловлена передача из планетной системы двойной звезды 61 Лебедя, но только через девяносто лет Академии Пределов Знания удалось расшифровать с помощью переводных и логических машин эти таинственные символы. То был призыв, обращенный к землянам, войти в содружество Великого Кольца: «Привет вам, братья, вступившие в нашу семью! Разделенные пространством и временем, мы соединились разумом в кольце великой силы».
А еще через двести лет люди вступили в постоянную связь с планетными системами ближайших звезд, и это ознаменовало собой наступление эры Великого Кольца.
Она принесла людям Земли не только беспредельно расширившиеся представления о космосе как о бесчисленных островах и архипелагах могучего разума, но и новое мировоззрение, новые философские понятия, духовное и моральное обновление.
То была «победа над временем, над краткостью срока жизни, не позволяющей ни нам, ни другим братьям по мысли проникнуть в отдаленные глубины пространства. Посылка сообщения по Кольцу — это посылка в любое грядущее, потому что мысль человека, оправленная в такую форму, будет продолжать пронизывать пространство, пока не достигнет самых отдаленных его областей».
Даже сообщение, полученное из далекой системы Гаммы Лебедя, которое шло больше девяти тысяч лет, было понято людьми, потому что его предварительно расшифровали другие члены Кольца, более близкие обитателям Гаммы Лебедя по характеру мышления и уровню знаний.
Установив таким образом контакт с обитаемыми мирами, человечество почувствовало себя еще более могущественным перед силами природы. Выработалось еще более высокое чувство нравственного долга, ибо отныне люди Земли тревожились за судьбу уже не только своей планеты...
С тех пор Академия Пределов Знания расшифровывает еще не понятые обозначения, идущие из глубин космоса. Эти сигналы сотни и тысячи лет несутся со скоростью света из одного звездного мира к другому. Люди принимают «астротелепередачу» с Эпсилон Тукана и видят то, что происходило на этой планете триста лет назад, на расстоянии девяноста парсеков...
И, наконец, апофеозом, венчающим торжество мысли, становится внепрограммный прием сообщения, дошедшего из Туманности Андромеды — исполинского звездного роя, превосходящего по размерам нашу Галактику. Сообщение было послано полтора миллиона лет назад, задолго до наступления ледниковой эпохи и возникновения первичных форм цивилизации на Земле! Вести были перехвачены на противоположной стороне Млечного Пути другими членами содружества Великого Кольца и в конце концов дошли до Земли!..
«На краю нашей Галактики находится Солнце и крошечная пылинка Земля, сцепленная силой знания с множеством обитаемых миров и распростершая крылья человеческой мысли над вечностью Космоса!»
Человечество в романе Ефремова — люди не только Земли, но и других планет, носители высшего разума, рассредоточенного в разных уголках бесконечной Вселенной. Ни время, ни пространство, ни вечный мрак, ни холод мироздания не могут помешать людям установить связь и обмениваться знаниями с братьями по мысли...
Великое Кольцо — одна из самых ярких и покоряющих воображение идей Ефремова. Она так хорошо продумана и точно изложена, что воспринимается не только как фантазия, но и как научная гипотеза.
Еще в начале XX века известный революционер и ученый, шлиссельбуржец Н. А. Морозов прославлял в своих «Звездных песнях» бессмертный Разум, зарождающийся на многочисленных планетах — «в мире вечного движенья, в превращеньях вещества», а поэт Валерий Брюсов и гениальный ученый К. Э. Циолковский мечтали о том времени, когда люди установят связь с разумными существами других звездных миров и даже научатся управлять движением планет.
Этот мотив проходит через весь цикл «звездных» стихов Брюсова.
...Да, сын Земли, в
борьбе нетерпеливой, Я в
бесконечное бросаю
стих — К тем существам
загадочным,
счастливым, Что мыслят, что
живут в мирах иных.
Не знаю, как мой зов
достигнет цели,
Не знаю, кто привет
мой донесет, — Но если те
любили и скорбели, —
Но если те мечтали в
свой черед
И жадной мыслью
погружались в тайны,
Следя лучи, горящие вдали,
Они поймут мой голос
не случайный,
Мой страстный вздох,
домчавшийся с Земли.
Пройдя, как мы, поток
времен безмерных, Вы,
духи света иль, быть
может, тьмы, — Вы, как и я,
храните символ веры:
Завет о том, что будем
вместе мы!
Если в этом стихотворении поэт грезит о встречах с неведомыми носителями Разума, то в другом, посвященном памяти Жюля Верна, он мечтает об установлении братства во Вселенной путем непосредственных контактов:
Я жду, что наконец
увижу шар блестящий, Как
точка малая,
затерянный в огнях, Путем
намеченным к иной
земле летящий, Чтоб братство
воссоздать в
разрозненных мирах.
Другой «сын Земли» — Константин Эдуардович Циолковский, разрабатывая проблему ракетного передвижения в космосе и мысленно прокладывая первые межпланетные трассы, пророчествовал о создании в далеком будущем грандиозных республик высокоразумных обитателей планет, солнечных систем и млечных путей.
«...Вселенная, — писал Циолковский в своей «Научной этике», — полна разумными, могущественными и счастливыми существами. Их гений и могущество и заселили Вселенную, избавив ее от мук самозарождения. Эти существа подобны совершенным людям, которые произойдут от теперешнего человечества».
«Может ли быть, — восклицал он, — чтобы они не установили между собой связь?»
«Радио — одно из современных чудес... Со временем короткие радиоволны проникнут за атмосферу и будут основанием для небесных сообщений», — предсказывал ученый.
Эти идеи послужили Циолковскому отправной точкой для его философских трактатов и научно-фантастических этюдов, проникнутых светлым оптимизмом и неослабной верой в бесконечное совершенствование человечества. Но, при всей прозорливости Циолковского, ему не удалось в своих философских и этических представлениях о космической эре подняться выше туманных и в значительной степени утопических прогнозов.
Не так у Ефремова. Осмысливание путей в грядущее с позиций диалектического и исторического материализма позволило ему более ясно и отчетливо наметить черты грядущей космической эры. И тут в некоторых существенных моментах обнаруживаются его разногласия с Циолковским.[51]
Разногласия касаются, во-первых, так называемой «колонизации» космоса и, вовторых, внешнего облика и биологической природы высших существ других миров.
«Мы уверены, — писал Циолковский в трактате «Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы», — что зрелые существа вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отсталых планет и сноситься с такими же зрелыми, как они... Разум и могущество этих существ ликвидируют зачаточную жизнь на других планетах и заселяют их своим потомством...»
Но допущение вмешательства в жизнь «отсталых планет» может привести к нежелательным конфликтам и столкновениям. Против этого и предостерегает Ефремов устами председателя Совета Звездоплавания Гром Орма.
Во время всенародного обсуждения задач предстоящей Тридцать восьмой звездной экспедиции вносится предложение направить ее к зеленой циркониевой звезде в системе Альфа Эридана. Из сообщений, принятых по Великому Кольцу, известно, что эта звезда имеет две планеты с условиями, соответствующими земным, но без высшей мыслящей жизни. Таких планет в космосе не так уж много.
«Это необычайно редкая удача, — говорит Гром Орм. — Если бы там оказалась высшая жизнь, мир зеленой звезды был бы закрыт для нас. Еще в семьдесят втором году эпохи Кольца, более трех веков назад, наша планета предприняла обсуждение вопроса о заселении планет с высшей мыслящей жизнью, хотя бы и не достигшей уровня нашей цивилизации. Тогда же было решено, что всякое вторжение на подобные планеты ведет к неизбежным насилиям вследствие глубокого непонимания».
Для общественного строя эры Великого Кольца высшая гуманность — непреложный закон. Насильственное вмешательство в чужую жизнь и навязывание — пусть даже и доброй — воли недопустимо ни в малом, ни в большом, ни на Земле, ни во Вселенной...
Исходя из представления о множественности миров и различия природных условии на планетах, Циолковский предполагал возможность самых необычных с нашей точки зрения жизненных форм, вплоть до «бестелесных существ», обладающих тем не менее высоким разумом.
«Итак, мы — плотные существа, — писал он в той же «Научной этике», — окружены кадрами не только таких же плотных (но совершенных и могущественных существ), но и кадрами существ эфирных, число которых бесконечно, как бесконечно прошедшее время. Каждый из этих кадров эфирен в отношении последующих и грубо плотен по отношению ко всем предыдущим».
Природу этих «эфирных существ» или «животно-растений космоса» Циолковский объяснял их способностью извлекать продукты для обмена из солнечного света, преобразующего зерна хлорофилла в белки и углеводы.
В «Туманности Андромеды» мы дважды встречаемся с изображением неземных людей, полученным по Великому Кольцу. В одном случае это — серокожее человекоподобное существо с планеты 61 Лебедя, с тонкими, длинными, словно щупальцы, конечностями и беззубым ртом, а в другом — изумительные по красоте и совершенству пропорций люди Тукана, настолько похожие на землян, что «постепенно утрачивалось впечатление иного мира».
Братья по разуму только в редчайших случаях оказываются братьями и по телу, как люди Тукана, однако, как бы ни были велики биологические отклонения, разумное мыслящее существо не должно и не может предстать в виде какого-нибудь химерического чудовища, каких немало породило за последние десятилетия необузданное воображение романистов.
Для Ефремова это вопрос принципиальный. Он мог бы по примеру многих писателей придать разумным существам других планет самый невероятный облик. Но он этого нигде не делает — ни в «Звездных кораблях», ни в «Туманности Андромеды», ни в «Сердце Змеи». Более того, Ефремов исходит из представлений о железной закономерности образования и эволюции жизни в условиях Земли и гипотетически переносит общие закономерности биологического развития на планеты с приблизительно сходными условиями.
Как бы ни были разнообразны пути эволюции жизни на разных мирах, великий закон уравнения, усреднения жизненных форм неизбежно должен привести к тому, что, после миллионов лет отклонения, в конце концов получится «человек» — двуногое мыслящее существ, через которое природа познает самое себя. Таковы взгляды Ефремова.
К этой важнейшей проблеме современной научной фантастики мы еще вернемся, когда речь пойдет о повести «Сor Serpentis (Сердце Змеи)».
Мы не случайно отклонились от нашей темы. Величайшие события, ныне происходящие в науке, превращают и познание биологических закономерностей в «космическую» проблему. Сейчас можно уже по-новому осмыслить и по достоинству оценить значение грандиозной гипотезы Великого Кольца, выдвинутой Ефремовым.
В те годы, когда он обдумывал и писал «Туманность Андромеды», еще нельзя было предвидеть, что выход на порог космоса одновременно будет для человечества и преддверием межзвездной радиосвязи, иначе говоря — преддверием Великого Кольца. Даже такой широко образованный писатель, как Ефремов, не мог предусмотреть, что научная мысль так быстро постучится в ту же дверь, которую он распахнул силой своей фантазии. А между тем это так.
Мировая печать широко оповестила об эксперименте, поставленном в ночь с 5 на 6 апреля 1960 года американской обсерваторией Грин-Бэнк в штате Западная Виргиния. В присутствии астрономов Советского Союза, Индии, Швеции и Канады двадцатишестиметровая параболическая антенна, настроенная на волну длиною в 22 сантиметра, что соответствует длине волны межзвездного водорода, была направлена на Тау в созвездии Кита и на Эпсилон в созвездии Эридаиа. Обе эти звезды, находящиеся примерно на расстоянии одиннадцати световых лет от Земли, по предположениям ученых, должны иметь планеты с условиями, благоприятными для развития органической жизни. Не исключена возможность, что на этих планетах существует цивилизация, сходная с нашей или значительно более высокая.
Радиошумы, исходящие оттуда, будут усилены синтетическим рубином, работающим при температуре жидкого гелия, и записаны на магнитной ленте. Затем электронные устройства подвергнут эти записи анализу, пытаясь обнаружить в них сигналы, посланные разумными существами. Подобные опыты проектируются и в Советском Союзе. Когда у нас будет введено в строй крупнейшее в мире тысячеметровое радиозеркало, зона прослушивания достигнет 350 световых лет!
Если эксперименты окажутся удачными, то можно рассчитывать на установление двусторонней связи с обитаемыми мирами на ближайших созвездиях. Теоретическому обоснованию возможности установления такой связи посвящена интересная статья профессора-астрофизика И. С. Шкловского «Возможна ли связь с разумными существами других планет?» («Природа», 1960, № 7).
«С давних времен, — пишет И. С. Шкловский, — люди мечтали о связи с разумными существами, обитающими на разбросанных в беспредельных просторах Галактики планетных системах. Приходится только поражаться, как быстро наука подтвердила принципиальную возможность осуществления идеи такой связи и сделала первые шаги на пути ее реализации. Однако надо себе ясно представить огромную величину этого пути и те колоссальные трудности, с которыми предстоит встретиться».

Галактика М31. Туманность Андромеды.
Еще более смелые выводы делает в своем исследовании профессор Станфордского университета в Соединенных Штатах Р. Брасвелл. По его мнению, «все далекие цивилизации, рассеянные в Млечном Пути, вероятно, уже связаны друг с другом широкой сетью и все они, очевидно, действуют по заранее согласованному плану, с тем чтобы избежать дублирования усилий».
Комментируя эти рассуждения Р. Брасвелла, В. Львов (статья «Великое Кольцо») приходит к правильному выводу, что в них нетрудно распознать гениальные прозрения Циолковского и величественный эпос ефремовской «Туманности Андромеды».
Интересны и заключения Ж. Кардана, автора статьи «Тау Кита и Эпсилон Эридана», помещенной 25 декабря 1959 года во французской буржуазной газете «Трибюн де Насьон». Излагая проект межзвездной связи, разработанный профессорами Коккони и Моррисоном, Ж. Кардан отмечает, что эти перспективы давно уже предвидел в своем превосходном романе «Туманность Андромеды» русский писатель Иван Ефремов.
В заключение приведем несколько строчек из итоговой статьи «Первый полет человека в космическое пространство», помещенной 25 апреля 1961 года в газете «Правда». Не в фантастическом романе, а на страницах центрального органа КПСС намечаются последовательные этапы проникновения человека во Вселенную: «Служба погоды и ледовой разведки, ретрансляция телевизионных и радиопередач, проведение самых широких научных исследований вне атмосферы Земли явятся лишь первыми шагами на этом пути. За ними последуют полеты человека к Луне и другим планетам солнечной системы, создание обитаемых межпланетных станций, постепенное освоение человеком жизни в космосе. А в далеком будущем — кажущаяся сейчас фантастической, возможность установления связи с другими мирами».
Трудно даже перечислить все научные идеи, занимающие воображение героев романа. Разрабатываются и подвергаются всенародному обсуждению предложения о создании искусственной, годной для дыхания, атмосферы Марса путем выделения легких газов из глубинных горных пород; о возможности сдвига оси вращения Земли для улучшения климатических условий материкового полушария; о приближении Плутона к Солнцу для заселения этой самой далекой планеты солнечной семьи и т.д.
Огромное значение придается борьбе с энтропией,[52] приводящей к преждевременному старению организма. Почти невероятные успехи в области биологии и медицины связаны с постижением тончайшего «кибернетического» механизма наследственности и способностью оказывать на него непосредственное воздействие.
Для нас, людей XX века, кажутся поистине сказочными замыслы и дерзания наших далеких потомков, изображенных в романе Ефремова.
И вместе с тем мы не можем не верить автору. Его фантастические гипотезы исходят не только из научного опыта, но в большей мере из того взрывчатого вещества, которое заключено в самом человеке, ибо сила мечты изначально присуща человеку, независимо от уровня его сегодняшних знаний. В последние десятилетия жизнь убедила даже скептиков, как стремительно вторгается наука в Неведомое и как безграничны возможности познающего разума.
В неизмеримо большей степени уверенность в этом должна быть свойственна людям будущего. Ведь они уже вырвали у природы столько тайн! Ведь они уже познали столько новых закономерностей! Может ли остановиться движение мысли на каком-то витке спирали? Конечно, нет! И понятной кажется горечь, которой проникнуты слова Эрг Ноора: «Наши полеты в безмерные глубины пространства — это пока еще топтание на крохотном пятнышке, диаметром в полсотни световых лет!»
И понятна неудовлетворенность Мвен Маса — перед ним лишь промелькнуло видение прекрасного мира планеты Эпсилон Тукана. Краснокожая девушка, протянувшая к нему руки из безмерной дали, давно уже мертва. «И то, что чудовищное расстояние в двести девяносто световых лет, недоступное никаким возможностям земной техники, отделяло его от чудесного мира, не ослабляло, а только усиливало жгучую мечту».
Так рождается протест разума против, казалось бы, непреодолимых законов инертной материи: «Вечные загадки и труднейшие задачи превратились бы в ничто, если бы удалось совершить еще одну величайшую из научных революций— окончательно победить время, научиться преодолевать любое пространство в любой промежуток времени, наступить ногой властелина на непреодолимые просторы космоса».
Мвен Маc, назначенный заведующим внешними станциями Великого Кольца, решает вместе со своим другом, гениальным физиком Рен Базом, поставить грандиозный опыт, чтобы подтвердить правильность теории «нуль-пространства». Обосновывая эти идеи, Ефремов не нарушает законов логики и научно допустимых возможностей — разумеется, в рамках фантастического сюжета. Его герои оперируют не только совершенно новыми понятиями, но и вымышленными научными дисциплинами. «Наука» о преодолении пространства, которое, согласно теории относительности, есть такая же физическая реальность, как материя и энергия, — это как бы дальнейшее развитие квантовой механики, теоретических построений Эйнштейна, Гейзенберга и других ученых XX века.
В изложении своих взглядов Рен Боз опирается на «биполярную» математику, основанную на диалектической логике с двусторонним анализом и решением, выводит формулы «репагулярного исчисления», определяющего преграды и направления в момент перехода из одного состояния к другому, упоминает о «кохлеарном исчислении» — другом разделе биполярной математики, анализирующем спиральное поступательное движение.
Автор допускает, что ученые уже не только раскрыли тайну гравитации, но и вплотную подошли к решению понятия антитяготения.
«Рен Боз быстро начертил три прямые линии, узкий сектор и пересек все это частью дуги большого радиуса.
— Это известно еще до биполярной математики. Несколько веков назад ее называли задачей четырех измерений. Тогда еще были распространены представления о многомерности пространства — они не знали теневых свойств тяготения... Как можно было представить себе пространство с таким знанием природы явлений? Но ведь они, наши предки, догадывались — видите, они поняли, что если расстояние, скажем, от звезды А до центра Земли вот по этой линии ОА будет двадцать квинтиллионов километров, то до той же звезды по вектору ОВ расстояние равно нулю... Практически не нулю, но стремящейся к нулю величине. И они говорили, что время обращается в нуль, если скорость движения равна скорости света».
Действительно, современная наука выдвигает немало парадоксальных гипотез. Некоторые ученые утверждают, что с увеличением дальности полета эффект замедления времени при субсветовой скорости возрастает стремительно, а вовсе не пропорционально, как полагали еще недавно. До соседней галактики — Туманности Андромеды — фотонная ракета домчала бы человека, если бы такой полет вообще был возможен, за каких-нибудь девять лет (по часам ракеты), а вернувшись обратно, астронавт узнал бы, что на Земле протекло примерно полтора миллиона лет!
Фантасты широко пользуются этой гипотезой, позволяющей создавать почти сказочные сюжеты. Ефремов ставит перед своими героями другие задачи, опираясь на подобные же допущения.
Рен Боз считает поле тяготения и электромагнитное поле двумя сторонами одного и того же свойства материи. «Если пространство есть функция гравитации, — продолжает он свои объяснения, — то функция электромагнитного поля — антипространство. Переход между ними дает векториальную теневую функцию нуль-пространства, которая известна в просторечии как скорость света. И я считаю возможным получение нуль-пространства в любом направлении».
Так далеко идущими фантастическими выводами из современных физических гипотез обосновывается грандиозный Тибетский опыт Рен Боза и Мвен Маса, к которому стягиваются важнейшие нити повествования.
Само собой разумеется, фантастическую теорию «нуль-пространства» следует соотносить не с доступными нашему пониманию ближайшими перспективами науки, а с теми беспредельными возможностями, которые сулит человечеству безграничное познание.
...После длительной подготовки Мвен Маc и Рен Боз осуществляют великий эксперимент. Переоборудовав опытную установку по исследованию пространства, находящуюся на вершине одной из тибетских гор, и сконцентрировав на несколько минут все энергетические ресурсы земного шара, они посылают исполинский столб энергии через передаточную станцию искусственного спутника 57 в сторону обитаемой планеты звезды Эпсилон Тукана.
И прежде чем вздулось зеленое пламя и сокрушительный взрыв поднял на воздух все сооружение и уничтожил спутник 57, перед Мвен Масом, на едва уловимое мгновение, словно приподнялась завеса времени и пространства...
Он «отчетливо услышал плеск волн. Невыразимый незапоминаемый запах проник в его широко раздувшиеся ноздри. Завеса сдвинулась налево, а в углу колыхалась прежняя серая пелена. Необычайно реальные встали высокие медные горы, окаймленные рощей бирюзовых деревьев, а волны фиолетового моря плескались у самых ног...»
Восторг, охвативший Мвен Маса, можно было бы передать словами «древнего» русского поэта:
И так прозрачна огней
бесконечность,
И так доступна вся
бездна эфира,
Что прямо смотрю я из
времени в вечность,
И пламя твое узнаю,
солнце мира...
Как известно, опыт закончился катастрофой, но, по словам Рен Боза, «репагулюм» — переход пространства в антипространство — все же был достигнут: на какую-то долю секунды как бы был переброшен «мост» к планете звезды Эпсилон Тукана.
Оценка результатов опыта и теми, кто его ставил, и всем человечеством выходит далеко за рамки чисто научной дискуссии, превращаясь в большой философский и этический спор. Ради этого Ефремов и поставил Тибетский опыт. Техника будущего для него только средство, помогающее выдвинуть новые моральные проблемы и раскрыть перед читателем сложный духовный мир своих героев.
Что же побудило Мвен Маса и Рен Боза пойти на колоссальный риск и поставить такой опасный опыт без разрешения Совета Звездоплавания? Вот как они сами объясняют свои поступки.
В горячем споре с Дар Ветром Мвен Маc говорит:
«Вы были на раскопках... разве миллиарды безвестных костяков в безвестных могилах не взывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, у которых, как песок между пальцев, мгновенно утекала молодость, красота и радости жизни,— они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним! Победа над пространством и есть победа над временем, — вот почему я уверен в своей правоте и в величии задуманного дела!»
Здесь вступает в действие совершенно новая моральная категория — чувство неоплатного долга перед десятками и сотнями сменившихся поколений, отдавших свою короткую жизнь во имя восхождения человечества к вершинам счастья и разума.
В отличие от страстной и непокорной натуры африканца Мвен Маса, Рен Боз — холодный аналитик, фанатически преданный науке и готовый на любые жертвы ради доказательства правоты своей теории. Потому его мотивировка, на первый взгляд, кажется иной.
«Пространство по-прежнему неодолимо в космосе, оно разделяет миры, не позволяет разыскать близкие нам по населению планеты, слиться с ними в одну бесконечно богатую радостью и силой семью. Это было бы самым великим преобразованием после эры Мирового Воссоединения, с той поры, как человечество наконец прекратило нелепое раздельное существование своих народов и слилось воедино, совершив гигантский подъем на новую ступень власти над природой. Каждый шаг на этом новом пути важнее всего остального, всех других исследований и познаний».
В обоих случаях побуждениями героев движут заботы о судьбах всего человечества. Нарушая сложившиеся нормы гражданского поведения, они не преследуют никаких честолюбивых или эгоистических целей.
И что особенно важно отметить — у мирового общественного мнения даже и не возникает мысли о какой-то личной заинтересованности этих двух выдающихся ученых. Совет Звездоплавания обвиняет их только в том, что они чрезмерно поспешили с осуществлением замысла и это привело к трагической гибели четырех человек на спутнике 57 и к большому материальному ущербу.
«Для Рен Боза, — говорит председатель Совета, стотридцатилетний Гром Орм, — я вообще исключаю ответственность. Какой ученый не воспользуется предоставляемыми ему возможностями, особенно если он уверен в успехе?»
И Совет Звездоплавания приходит к выводу, что, хотя опыт и закончился катастрофой, он все же ускорит решение множества вопросов, о которых в Академии Пределов Знания только еще начинали думать. Он неизбежно приведет к «триггерной реакции» — вспышке важнейших открытий.
Тем не менее проступок совершен. Кто же в нем повинен? И тут Ефремов раскрывает всю силу коллективной ответственности — один за всех, все за одного, — благородного и непреложного принципа, который неминуемо должен войти и уже входит в нашу жизнь.
Тревожное раздумье охватило планету. Академия Горя и Радости устроила всенародный опрос. Глава Совета Звездоплавания Гром Орм, считая себя виновным в непредусмотрительности, объявляет о своем решении уйти с занимаемого им высокого поста и просит послать его на восстановление спутника 57.
Неправ был поэтому пылкий африканец Мвен Мас, возложивший на себя одного всю тяжесть вины и осудивший себя на добровольное изгнание. Удалившись на остров Забвения еще до того, как общественное мнение сказало свое слово, он тем самым отказался от активной творческой жизни и, как это ни парадоксально, поставил свою индивидуальную волю выше гражданского долга, что вызывает у его друзей большее осуждение, нежели самый проступок.
Тут невольно вспоминаются мысли Маркса и Энгельса об отношениях людей при коммунизме, высказанные ими в «Святом семействе»: «...при человеческих отношениях наказание действительно будет не более как приговором, который провинившийся произносит над самим собой. Никому не придет в голову убеждать его в том, что внешнее насилие, произведенное над ним другими, есть насилие, произведенное им самим над собой. В других людях он, напротив, будет встречать естественных спасителей от того наказания, которое он сам наложил на себя...»[53]
Обостренное чувство личной ответственности каждого индивида перед огромным человеческим коллективом — одна из характернейших черт, которые Ефремов придает своим героям. Высшим критерием для каждого из них служит собственная совесть, ибо индивидуальные желания уже не могут расходиться с нуждами общества.
Люди эры Великого Кольца отличаются «доверчивой прямотой», и отсюда вытекают все их поступки и взаимоотношения. В этом смысле показательна реакция Совета Звездоплавания на выступление Эвды Наль. Она просит слово вместо тяжелобольного Рен Боза и берет ученого под защиту. В ответ на вопрос, почему она это делает, она чистосердечно признается: «Я люблю его», и этот довод оказывается самым веским. Любовь — большое чувство. Никому не придет в голову заподозрить Эвду Наль, что она может покривить душой и поступиться истиной ради любимого человека.
Историк и археолог Веда Конг, возлюбленная звездоплавателя Эрг Ноора, за годы его отсутствия полюбила Дар Ветра, но пока звездоплаватель не вернулся на Землю, не считала себя вправе отдаться новому чувству.
Заведующий внешними станциями Великого Кольца Дар Ветер почувствовал усталость и равнодушие к своей работе. При первых же симптомах этой страшной болезни — душевной энтропии — он счел нужным временно переменить специальность. Дар Ветер уезжает вместе с Ведой Конг в археологическую экспедицию в качестве простого раскопщика. Перейдя затем на тяжелую работу в подводные титановые рудники, он скоро начинает испытывать тоску и неудовлетворенность. Ведь по сравнению со своими возможностями он приносит сейчас так мало пользы! И когда Дар Ветер прослушал исполненную по его просьбе «Космическую симфонию» любимого композитора, он «понял, чего недоставало ему все эти долгие месяцы. Необходима работа, более близкая к космосу, к неутомимо разворачивающейся спирали человеческого устремления в будущее». И ученый вновь обретает душевное равновесие, выполняя по заданию Совета Звездоплавания труднейшую работу по восстановлению спутника 57.
Не менее значителен и внутренний конфликт Эрг Ноора. Рожденный в звездолете и впервые увидевший Землю в восемнадцатилетнем возрасте, он стал «межзвездным скитальцем», самым известным астронавтом. Романтик космоса, он мечтал о сказочно прекрасных мирах, которые ему предстояло открыть. Эрг Ноору казалось, что «в ослепительном сиянии голубого солнца Веги расцветает необыкновенная жизнь планет». И он хотел пройти по незримым трассам пропавшего восемьдесят пять лет назад звездолета «Парус», чтобы привести свой корабль к мечте...
Но вот он достигает планеты мрака и обнаруживает там мертвый звездолет со всеми материалами погибшей экспедиции. И только тогда удается правильно понять смысл последнего, искаженного расстоянием сообщения «Паруса», принятого Землей: «Четыре планеты Веги совершенно безжизненны. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Какое счастье будет вернуться!..»
Так рушится давняя мечта Эрг Ноора о прекрасных мирах далекой синей звезды. И после мучительных переживаний он приходит к выводу, что был неправ в своей погоне за «дивной мечтой» и неверно учил Низу Крит. «Чем прекраснее родная планета, тем сильнее хочется послужить ей. Сажать сады, добывать металлы, энергию, пищу, создавать музыку так, чтобы я прошел и оставил после себя реальный кусочек сделанного мною».
Во имя Земли и людей, ее населяющих, Эрг Hoop, Низа Крит и их товарищи на космическом корабле с гордым названием «Лебедь» отправляются в Тридцать восьмую звездную экспедицию, заранее зная, что на Землю им уже никогда не вернуться. Великий подвиг они готовы совершить «для тех, кто придет много лет спустя», ибо результаты экспедиции станут известны только следующим поколениям.
«Отказавшись, я утратил бы не только Космос, но и Землю», — говорит Эрг Hoop Веде Конг в минуты расставания.
Жить и умереть во имя человечества! Какой бы ни была длительной жизнь человека будущего, ее никогда не хватит для выполнения всех замыслов и дел!
А вот еще один конфликт, к которому неоднократно возвращается писатель: жажда знаний заставляет все время расширять диапазон деятельности, требующей громадного напряжения. Заведующий памятными машинами Юний Ант называет «бреваннами», то есть недолго живущими, тех, кто находится на переднем крае борьбы с природой. Это — работники внешних станций, летчики межзвездного флота, техники заводов звездолетных двигателей и прежде всего, конечно, большие ученые, люди неустанного, непрекращающегося поиска, чья жизнь никогда не достигает и половины нормального срока.
Могущественная медицина вступает в противоречие со все усиливающейся творческой работой мозга, сжигающей человека. Медицина может только запретить чрезмерную нагрузку. Однако далеко не каждый захочет отказаться от всепоглощающего, напряженного труда ради лишних лет жизни.
И это противоречие находит оправдание в словах психиатра Эвды Наль, одного из руководителей Академии Горя и Радости:
«Смерть страшна и заставляет цепляться за жизнь лишь тогда, когда жизнь прошла в бесплодном и тоскливом ожидании непрожитых радостей».
Итак мы раскрыли несколько конфликтов, которые, по мнению автора «Туманности Андромеды», могут быть типичными для наших далеких потомков.
Если в современном капиталистическом мире конфликты носят преимущественно антагонистический характер, обусловленный противоречиями самого общественного строя, то в условиях восторжествовавшего социализма часть из них полностью отпадает, а другие продолжают еще существовать как «родимые пятна» прошлого. Вместе с тем появляются и такие конфликты, которые порождены новыми общественными отношениями переходного периода от социализма к коммунизму.
При развитом коммунистическом строе все старые конфликты отмирают и переходят в совершенно иную сферу: высшего научного поиска, столкновения человека с природой, художественного творчества, любви, дружбы и т. п. Отсутствие всяких противоречий лишило бы общество стимула к дальнейшему развитию и совершенствованию. Было бы неправильно думать, что изображение нормальных людей в нормальных условиях (а это и дает ключ к социологии Ефремова) должно привести к так называемой «бесконфликтности». «Туманность Андромеды» как раз и опровергает это ошибочное мнение.
До сих пор мы говорили о конфликтах «нормальных людей в нормальных условиях». Но Ефремов допускает, что даже и в этом, идеальном с нашей точки зрения, обществе будут противоречия еще и другого порядка, вызванные отклонением отдельных индивидов от твердо установившихся этических норм. Автор объясняет это прежде всего их биологической неполноценностью. Несмотря на то что была проделана огромная работа по «очищению наследственности» от последствий неосторожного пользования радиоактивными элементами и от распространенных прежде болезней, наложивших свою зловещую печать на целые поколения, процесс этот не был еще завершен. «Внезапно, откуда-то из глубин наследственности, проявляются самые неожиданные черты характера далеких предков. Случаются поразительные отклонения психики, полученные еще во времена великих бедствий эры Разобщенного Мира, когда люди не соблюдали осторожности в опытах и использовании ядерной энергии и нанесли повреждения наследственности множества людей...»
Отсюда, по-видимому, и недостатки астронома Пур Хисса, проявляющего себялюбие, слабость духа и зависть к более одаренным товарищам. Чтобы сильнее оттенить его отрицательные свойства, автор наделяет Пур Хисса неприятной внешностью — по контрасту с окружающими его и физически и духовно прекрасными людьми.
Гораздо сложнее и противоречивее образ знаменитого математика Бет Лона, попытавшегося противопоставить свою индивидуальную волю коллективному мнению Академии Пределов Знания. Вопреки запрещению, он упорно продолжал свои жестокие опыты и, воспользовавшись доверием мужественных молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, погубил несколько человеческих жизней. В отличие от Мвен Маса, потрясенного до глубины души смертью людей на разрушенном спутнике 57, Бет Лон, «обладавший могучим умом, гипертрофированным за счет слабого развития моральных устоев и торможения желаний», занял непримиримую позицию и был приговорен к изгнанию. Уединившись на острове Забвения, он и там чувствовал себя гордым мятежником. Но встреча с Мвен Масом заставила его подумать об искуплении своей вины и о возвращении в Большой мир.
Что же такое остров Забвения? По словам автора, в нем воплощена «глухая безыменность древней жизни, эгоистических дел и чувств человека! Дел, забытых потомками, потому что они творились только для личных надобностей, не делали жизнь общества легче и лучше, не украшали ее взлетами творческого искусства».
В обществе, где все основано на принципах добровольности, каждому предоставляется право свободного выбора своего жизненного пути. Никакие внешние силы не должны и не могут воздействовать на личность, если только она не нарушает установившихся норм поведения. Тем, кто не в состоянии выдержать напряженного ритма жизни, кто лишен творческих импульсов, дана возможность удалиться из Большого мира, чтобы коротать свои дни в пассивном общении с природой. Правда, Большой мир не забывает этих добровольных изгнанников. Их оберегают от опасностей, оказывают медицинскую помощь, доставляют одежду и продовольствие и т.д.
Остров Забвения — своего рода нервная клиника будущего. Те из «больных», кому удается преодолеть свой недуг — инертность духа и себялюбие, рано или поздно снова возвращаются к радостной и многогранной творческой деятельности.
Пройдет какое-то время, и эта «клиника» на лоне природы прекратит свое существование за ненадобностью, хотя сложнейший процесс совершенствования души и сознания человека никогда не прекратится!
В главе «Остров Забвения», как и в «Путешествии Баурджеда», содержится глубокий смысловой подтекст, напоминающий нам о трагических событиях недавнего времени. Приведем только одну выдержку.
Люди эры Великого Кольца называют «быками» тех индивидов, которые своим себялюбием и жестокостью всегда причиняли затруднения человечеству. Страдания, раздоры и несчастья в далеком прошлом человечества всегда усугублялись именно такими людьми, провозглашавшими себя в разных обличиях единственно знающими истину, считавшими себя вправе подавлять все несогласные с ними мнения, искоренять иные образы мышления и жизни. С тех пор человечество избегало малейшего признака абсолютности во мнениях, желаниях и вкусах и стало более всего опасаться «быков».
«Туманность Андромеды» — произведение, выросшее на идеях социалистического гуманизма. Писатель верит в людей, в их неуклонное поступательное развитие и высмеивает устами Мвен Маса горе-теоретиков буржуазной «науки», говоривших о неизменности и неизменяемости человеческой природы на протяжении многих тысячелетий: «Если бы они больше любили людей и знали диалектику развития, подобная нелепость никогда не могла бы прийти им в голову».
Карлу Марксу принадлежит лаконичная формула — коммунизм равен гуманизму, смысл которой раскрывает в следующих словах: коммунизм «есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».[54]
Опираясь на марксистско-ленинское учение о будущем обществе, Ефремов выводит целую галерею образов людей, соответствующих этим высоким гуманистическим идеалам. Читатель знакомится с завоевателями космоса Эрг Ноором и Низой Крит, с учеными, работающими в разных областях знания, — Дар Ветром и Юнием Антом, Мвен Масом и Рен Бозом, Гром Ормом и Фрит Доном, врачами Аф Нутом, Грим Шаром, историком Ведой Конг, психиатром Эвдой Наль и археологом Миико Эйгоро, с танцовщицей Чарой Нанди, художником Карт Саном и со многими другими.
Необычное звучание имен, которыми Ефремов наделил своих героев, производит поначалу странное впечатление. Но когда мы узнаем, что далекие предки Дар Ветра — русские, а Мвен Маса — африканцы, что в жилах палеонтолога Ляо Лана есть капля китайской крови, а Миико Эйгоро — праправнучка японского художника, становится понятным стремление автора сохранить в собственных именах семантические корни исчезнувших национальных языков.
Не все перечисленные персонажи являются центральными. Некоторым отводится лишь эпизодическая роль, и обрисованы они беглыми штрихами, но, за редкими исключениями, каждое действующее лицо романа гармонически сочетает в себе духовное богатство, смелость мысли, моральную чистоту и физическое совершенство.
К ним можно отнести известные слова Энгельса о людях эпохи Возрождения, которых он характеризовал как титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености.
Стремление увидеть людей такими, какими они будут, какими они должны быть, — едва ли не самое большое достоинство «Туманности Андромеды».
Когда труд перестает быть необходимостью и становится естественной потребностью, доставляющей радость и наслаждение, человек вырывается из плена узкой профессионализации. В эру Великого Кольца за долголетнюю жизнь каждый успевал получить высшее образование по нескольким специальностям, меняя род работы в соответствии с внутренней потребностью. Несмотря на преизбыток материальных благ, люди не мыслят нормальной жизнедеятельности вне разностороннего созидательного труда.
«Мечты о тихой бездеятельности рая, — говорит Эвда Наль, — не оправдались историей, ибо они противны природе человека — борца».
Эта мысль, проходящая красной нитью через весь роман, полемически заострена против утопических, антинаучных представлений о высшей фазе коммунизма как о «машинном рае», где на долю человека оставлена скучнейшая обязанность — вовремя нажимать кнопки механизмов и переводить рычаги управления.
Изображенное Ефремовым общество могло бы полностью отказаться от применения простого физического труда. Однако автор не перестает настаивать на его биологической необходимости. Ведь физическая работа дает не только разрядку от интеллектуального напряжения, но, в соединении со спортом, способствует закалке организма и приносит удовлетворение в непосредственной борьбе с различными трудностями.
Если бы многие поколения пренебрегали простой и здоровой работой, результат мог бы быть только один — вырождение. Достаточно вспомнить уэллсовских элоев из «Машины времени» — миловидных жалких созданий — и целую коллекцию физических уродцев, с непомерно развитым черепом и паучьими ручками и ножками, которые изображаются некоторыми писателями-фантастами в качестве «эталона» человека будущего.
К чему мог бы привести отказ целого общества от трудовой деятельности, попытались показать Г. Альтов и В. Журавлева в фантастической повести «Баллада о звездах». На гипотетической планете с исключительно благоприятными природными условиями разумные существа с высоким интеллектом («Видящие Суть Вещей») обречены на угасание, так как в течение многих веков они пользовались дарами природы, не прилагая к тому никаких усилий. Утрата трудовых навыков и растительно-созерцательное прозябание приводят эту цивилизацию к однобокому развитию и неизбежной деградации.
С детских лет люди эры Великого Кольца приучаются к разным формам физического труда. В школе третьего цикла, подробно описанной в романе, теоретические занятия чередуются с трудовыми уроками. Девочки вручную шлифуют оптические стекла, мальчики, работая топорами — инструментами, изобретенными еще в каменном веке, строят небольшой корабль без помощи автоматических пил и сборочных станков. На этом корабле они собираются вместе с учителями истории, географии и труда совершить плавание к развалинам Карфагена.
После окончания школы семнадцатилетние юноши и девушки вступают в трехлетний период «подвигов Геркулеса». По свободному выбору каждый должен совершить до двенадцати трудных, порою даже опасных дел, что дает право на получение высшего образования.
Эрг Hoop научился еще до совершеннолетия вести звездолет и стал астронавигатором. Это было зачтено ему в «подвиги Геркулеса».
Pea, дочь Эвды Наль, решила сперва стать медицинской сестрой на острове Забвения, а потом вместе с подругами работать в Ютландском «психологическом госпитале».
Несколько юношей, избравших своим ментором Дар Ветра, несут дозорную службу в болотах Западной Африки, а затем должны расчистить одну из осыпавшихся пещер в Средней Азии, пробить дорогу к озеру сквозь острый гребень хребта, возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине, выяснить причины появления больших осьминогов у берегов Тринидада и истребить их, собрать материалы по древним танцам острова Бали и т.д.
«Кто из юношей не рвется в Дозорную службу — следить за появлением акул в океане, вредоносных насекомых, вампиров и гадов в тропических болотах, болезнетворных микробов в жилых зонах, эпизоотий или лесных пожаров в степной и лесной зонах, выявляя и уничтожая вредную нечисть прошлого Земли, таинственным образом вновь и вновь появлявшуюся из глухих уголков планеты?.. Молодежи всегда поручалась работа с учетом психологических особенностей юности, с ее порывами вдаль, повышенным чувством ответственности и эгоцентризмом».
Во всех своих прогнозах и допущениях Ефремов твердо опирается не только на желаемое, но и на действительное. Иными словами, он укладывает свой каркас представлений о завтрашнем дне на прочный фундамент вчерашнего и сегодняшнего знания, уже отложившегося в практике нашего общества. Но то, что сегодня еще только намечается или проступает в виде первых ростков, он изображает в состоянии полного расцвета.
Интересно поэтому сопоставить раскрытие темы трудового воспитания молодежи в романе с публицистическими выступлениями писателя на ту же тему. Разве не о тех же «подвигах Геркулеса» говорит Ефремов в своей статье «Темп романтиков», напечатанной 1 января 1961 года в ленинградской газете «Смена»?
«Действительно, — пишет он, — организм человека устроен для энергичной работы. Только в процессе активной деятельности он набирает силу и достигает совершенства. Человек, появившийся на Земле как результат бесконечно длинной, протянувшейся на миллионы веков цепи непрерывно изменявшихся и совершенствовавшихся поколений животных, — бесстрашный, могучий и умный борец за свое существование. Поэтому для человека борьба и работа — это норма жизни, условие для его здоровья, совершенствования, воспитания».
В «Туманности Андромеды» он и пытается показать гармоническое слияние умственного и физического труда в обществе, где не остается ни рабочих, ни крестьян, ни интеллигентов.
Н. Г. Чернышевский в четвертой главе «Очерков гоголевского периода русской литературы» писал: «...если хотите, это так: гений — просто человек, который говорит и действует так, как должно на его месте говорить и действовать человеку с здравым смыслом; гений — ум, развившийся совершенно здоровым образом, как высочайшая красота — форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиться, как бы ему всегда следовало развиваться».
Возможности человека неисчерпаемы. Люди с нормальными творческими способностями в благоприятных условиях подымутся неизвестно до каких вершин. То, что сегодня мы считаем гениальностью, вероятно, когда-нибудь станет нормой.
«Промышленно-экономическая газета», предоставив свои страницы для обвинения Ефремова в... проповеди технократии, забыла азбучные истины марксизма.
Да, в мире будущего не останется никаких классовых разделений. Герои Ефремова — не только инженеры и ученые, но и люди, владеющие разными профессиями, требующими физических усилий. Так, например, Дар Ветер был машинистом спиральной дороги, механиком плодосборочных машин и только потом занял один из самых крупных постов — заведующего внешними станциями Земли. Но, как помнит читатель, эта должность тоже не стала для него пожизненной.
Преемник Дар Ветра, выдающийся ученый Мвен Мас, долгое время работал по устройству водоснабжения рудника в Западном Тибете, потом — в одном из лесных питомников Южной Америки, истреблял морских хищников у берегов Австралии, и т.д.
То же самое можно сказать и о других персонажах, владеющих — и автор не забывает этого отметить — пятью-шестью профессиями и не избегающих простого труда.
«И конечно же, — пишет Ефремов в статье «На пути к роману «Туманность Андромеды»,— жизнь людей той эпохи окажется заполненной до краев: они все время будут увлечены интересной работой, многообразной интеллектуальной и физической деятельностью. Это избавит их от праздности, от постыднейшей необходимости как-нибудь «убить время». Наоборот — им будет чертовски не хватать времени!..»
Многие читатели и критики называют «Туманность Андромеды» книгой о настоящем человеческом счастье. Но, в отличие от большинства социально-утопических романов прошлого, рисующих счастье как венец развития, как некий рай, где не остается ничего другого, кроме Пассивного наслаждения бытием, Ефремов понимает счастье, как беспрерывное поступательное движение, как неустанную борьбу всего общества и каждой отдельной личности за решение все более сложных и динамических задач, выдвигаемых самой жизнью.
Человеческое счастье — понятие многообразное. На каждом историческом этапе оно наполняется новым содержанием. Эта мысль ясно выражена Эвдой Наль в ее беседе с учащимися:
«С возрастанием уровня культуры ослабевало стремление к грубому счастью собственности, жадному количественному увеличению обладания, быстро притупляющемуся и оставляющему темную неудовлетворенность.
Мы учим вас гораздо большему счастью отказа, счастью помощи другому, истинной радости работы, зажигающей душу. Мы помогали вам освободиться от власти мелких стремлений и мелких вещей и перенести свои радости и огорчения в высшую область — творчества».
Восприятие свободы как познанной необходимости проявляется и в личных взаимоотношениях героев, умеющих дисциплинировать свои чувства и желания. Правда, в этом многоплановом произведении автор уделил немного места любви и дружбе, семейной жизни и домашнему быту героев. О личных чувствах ведущих персонажей романа — Эрг Ноора и Низы Крит, Дар Ветра и Веды Конг, Мвен Маса и Чары Нанди, Рен Боза и Эвды Наль — сказано очень скупо. Чтобы не подгонять чувства и взаимоотношения людей будущего к нормам сегодняшнего дня, писатель оставляет широкий простор для раздумий.
Больше всего впечатляет романтическая любовь первой пары. Чувство Низы Крит к Эрг Ноору зарождается во время полета «Тантры». Необычные условия и пережитые грозные опасности сближают их сердца. Если Веда Конг — историк древнего мира, «земная женщина» — не смогла до конца проникнуть во внутренний мир «звездного скитальца» Эрг Ноора, то Низа Крит, его товарищ по экспедиции, целиком разделяет все его помыслы и стремления. Потому их любовь — это прежде всего полное взаимопонимание. Но, зная, что Эрг Hoop привязан к другой, Низа Крит старается сдержать свое трепетное нежное чувство.
Но вот наступает час, когда Эрг Hoop, склоненный над бездыханным телом девушки, принявшей на себя электрический удар чудовища с планеты Тьмы, приходит к пониманию, что в его душе не остается места для любви к другой. Врач экспедиции предлагает средствами медицины воздействовать на его мозговые центры, чтобы искусственно притупить страдания. Но Эрг Hoop отказывается: «Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведет к пониманию, понимание — к любви,— так замыкается круг».
Любовь во всех случаях вдохновляет героев Ефремова на самые большие свершения. Она всегда благородна и самоотверженна, и это исключает ревность, эгоизм, недоверие и другие мелкие чувства, недостойные человека нового мира.
Эрг Ноору было бы гораздо тяжелее навсегда оставить Землю, если бы вместе с ним не отправилась на «Лебеде» Низа Крит.
Мвен Мас, может быть, и не покинул бы так скоро остров Забвения, если бы Чара Нанди не помогла ему вновь обрести веру в себя.
Когда Дар Ветер убедился, что Веда Конг отвечает ему взаимностью, силы его удесятерились. Преодолев душевную усталость, он творил чудеса на самом трудном и опасном участке — восстановлении спутника.
Эвда Наль силою своей любви не только вырывает Рен Боза из лап смерти, но и принимает на себя моральную ответственность за его поступок.
Тем не менее в обрисовке характеров и личных взаимоотношений героев автор не свободен от схематизма, за что его нередко упрекают. Это сложный вопрос, и на нем следует остановиться особо.
Можно ли в научно-фантастическом романе, насыщенном таким огромным количеством научных и мировоззренческих проблем, в романе, устремленном в далекое будущее, изображать человека с такой же полнотой и теми же способами, как в обычной реалистической прозе? Если бы автор не стремился выдерживать большую историческую дистанцию между нами, читателями романа, и людьми эры Великого Кольца, его книга утратила бы пленительный колорит необычности и снизилась до уровня фантастики «ближнего прицела».
Ефремов лишь в нескольких строках рассказывает о любви Эрг Ноора и Низы Крит, и в рамках фантастического повествования этого вполне достаточно.
Так же скупо, но с глубоким смысловым подтекстом, раскрывается понятие «вектора дружбы». Духовная близость требует постоянного общения. Близкие друзья пользуются привилегией соединяться между собой по вектору дружбы, как по прямому проводу, в каком бы уголке Земли они ни находились.
Если бы автор подробно, с тончайшими психологическими нюансами стал описывать любовь и дружбу своих героев, то «Туманность Андромеды» не только разрослась бы до нескольких томов, но и утратила бы, по-видимому, жанровые признаки научно-фантастического романа.
В самом деле, ведь и А. Н. Толстой совершенно по-разному рисует любовь Лося и Аэлиты и героев «Хождения по мукам».
Каждый жанр имеет определенный ключ условности и требует особых изобразительных средств, и с этим нельзя не считаться.
Есть в «Туманности Андромеды» и условности другого порядка. Как бы ни был прозорлив и талантлив писатель, он не в силах создать полнокровные реалистические образы людей, которых он только пытается предвидеть в дали веков. Даже в лучших утопических романах образы людей новой формации всегда более или менее абстрактны. В этом отношении «Туманность Андромеды» не составляет исключения. Научно-фантастический роман Ефремова, как мы уже знаем, тесно связан с традициями мировой утопической литературы, и это объясняет многие его художественные особенности.
Ефремов правильно поступил, отведя такую большую роль женским персонажам. Мы видим и верим, какой удивительной красоты, и физической и духовной, достигнет женщина, когда окончательно исчезнут и уйдут в предание последние остатки ее общественного неравенства. По мысли автора, женщина не только не уступает мужчине в разносторонности знаний и в творческом труде, но и вносит в жизнь облагораживающее эстетическое начало. Отношения свободного товарищества не исключают культа женской красоты, ибо, как говорит художник Карт Сан, «прекрасное всегда более закончено в женщине и отточено сильнее по законам физиологии».
Но, попытавшись раскрыть высокий духовный мир и богатство эмоций Веды Конг и Низы Крит, Эвды Наль и Чары Нанди, писатель не нашел достаточно впечатляющих художественных средств для создания психологических оттенков и увлекся подробнейшим описанием необыкновенной красоты своих героинь. Каждая в отдельности по-своему хороша и привлекательна, но в ансамбле такой преизбыток ярких красок и восторженных оценок приводит к однообразию, а в некоторых случаях — утере чувства меры и вкуса. Насколько интересна лекция Веды Конг, переданная по Великому Кольцу, насколько глубоки размышления Эвды Наль о формировании человеческой личности и убеждающе героичны поступки Низы Крит в космосе, а Чары Нанди в борьбе за спасение Мвен Маса, настолько же заурядными и порою даже банально-мелодраматическими кажутся любовно-бытовые сцены. И, помимо того, что эти страницы самые неудачные в романе, они воспринимаются как досадный анахронизм. Невольно перенеся в будущее условные эталоны красоты, Ефремов допустил, конечно, ошибку. Таким же просчетом является и противоречащая его собственному творческому методу попытка детально описывать наряды, прически, украшения и прочие аксессуары женского кокетства.
Писатель не вдается в подробные объяснения эволюции семьи и ее места в обществе. Но из текста романа можно легко понять, что он мыслит себе будущее семьи как свободное соединение любящих пар. Выбор определяется не только естественным физическим влечением, но и общностью духовных интересов и стремлений. Это уже не семья в нашем понимании, а своего рода дружеский и творческий союз.
Тут видна определенная историческая преемственность. Достаточно вспомнить биографии выдающихся русских революционеров, Карла Маркса и Женни Вестфален, супругов Лафаргов, Пьера Кюри и Марии Склодовской, Ирен и Фредерика Жолио-Кюри. Но то, что в «давние времена» было лишь редким исключением, для людей эры Великого Кольца становится естественной нормой общежития.
Представления Ефремова о брачных союзах будущего, когда любящие пары смогут свободно сходиться и расходиться, не нанося никакого морального ущерба обществу, согласуются с известными мыслями Ф. Энгельса, изложенными в его труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
После устранения капиталистического производства, утверждал Энгельс, новые поколения уже не должны будут следовать лицемерной буржуазной морали. Мужчине «никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие средства социальной власти», а женщине «никогда не придется отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, или отказываться отдаться любимому мужчине из боязни экономических последствий». И Энгельс приходит к такому заключению: «Когда эти люди появятся, они пошлют к черту все то, что им сегодня предписывают делать как должное; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка».[55]
Мысль Ефремова об исчезновении семьи в ее современном понятии многим кажется не только спорной, но и пугающей. Так, например, Ю. Рюриков, автор интересной и содержательной книги о научно-фантастической литературе «Через сто и тысячу лет», полагает, что смерть семьи — это не просто смерть «ячейки», «клеточки» общества, но и исчезновение великого чувства материнской и детской любви. Но так ли это?
Конечно, вопрос о семье будущего невозможно решить априорно, как и многие другие социальные проблемы, поставленные в «Туманности Андромеды». Однако в рамках сделанных допущений взгляды Ефремова глубоко продуманы, обоснованы и развернуты в стройную систему.
«Одна из величайших задач человечества, — пишет он, — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально обученными и отобранными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви. Каждая мать знает, что весь мир ласков к ее ребенку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая из животного страха за свое детище».
По мысли Ефремова, идеально поставленное коллективное воспитание — единственно правильный путь формирования нового человека.
В самых живописных местах построены дворцы, где размещаются учебно-воспитательные заведения. Детей уже в годовалом возрасте матери отдают в четырехлетнюю школу так называемого нулевого цикла. Лучшие учителя и воспитатели, люди влюбленные в свою профессию, развивают в ребенке его врожденные свойства, с самого начала помогая ему преодолевать эгоистическую жадность и необузданные желания. Пройдя затем три четырехлетних цикла обучения, ребенок получает среднее образование и приступает к «подвигам Геркулеса» — экзаменам на зрелость.
Обращают на себя внимание такие детали. На помощь учителям приходят ученики третьего цикла. Они берут под свое покровительство малышей, наблюдая за их учением и воспитанием. Идея очень верна. В силу возрастной и психологической близости, старший школьник может оказать на младшего самое благотворное воздействие. Переход в школу следующего цикла сопровождается обязательной переменой внешней обстановки, так как «психика утомляется и тупеет в однообразии впечатлений». Таким образом, дети, еще задолго до самостоятельного выбора жизненного пути, получают возможность увидеть мир в его неисчерпаемом многообразии.
Как построено обучение и воспитание в этих школах, мы уже говорили.
Почему же следует делать вывод, что при такой рациональной воспитательной системе ребенку должно быть хуже, чем в узком кругу семьи? И почему должно атрофироваться чувство материнской любви и привязанность детей к родителям?
Напомним волнующую сцену встречи Эвды Наль с ее дочерью Реей, ученицей школы третьего цикла. Как радуется мать успехам своей дочери и с какой доверчивостью девочка раскрывает перед матерью сокровенные тайники своей души! Что для Реи могло быть интереснее и важнее встречи с матерью, своей гордостью и всегдашним примером для подражания!
Юноша Тор Ан, сын знаменитого композитора Зиг Зора, увлеченный произведениями отца, принял решение посвятить себя музыке и тоже стать композитором.
Близость между детьми и родителями не только не утрачивается, но приобретает большую глубину. Дети, освобожденные от повседневной родительской опеки и часто унизительной зависимости, уже не обязаны любить родителей лишь по сыновьему долгу и по привычке. Они могут объективно оценивать их дела и поступки, их человеческие качества, которые станут главным критерием в чувствах детей к родителям.
Только так. в согласии с передовой педагогической мыслью, автор считает возможным решить вековечную проблему «отцов и детей».
Инстинкт материнства не может исчезнуть ни при каких условиях.
«Мне кажется, лучшим подарком, какой женщина может сделать любимому, — это создать его заново и тем продлить существование своего героя. Ведь это почти бессмертие!» — восклицает Низа Крит.
Все личные и общественные отношения, как известно, строятся в новом мире на сугубо добровольных началах. Поэтому женщинам, не находящим в себе сил побороть гипертрофированный, идущий от глубочайшей древности материнский инстинкт, предоставляется возможность всецело посвятить себя воспитанию своих детей. Остров Ява, переименованный в остров Матерей, — единственное место на Земле, где еще сохранились остатки прежнего семейного уклада.
Эра Великого Кольца — это одновременно и эра Прекрасного, в полной мере постигнутого человечеством.
Преодолено отставание искусства от стремительного роста знаний и техники. Наполнение мира Красотой, эстетизация всех сфер жизни становится внутренней потребностью каждого члена общества. Искусство в тесном союзе с наукой участвует в преобразовании человека и окружающего мира.
«Развивать эмоциональную сторону человека стало важнейшим долгом искусства. Только оно владеет силой настройки человеческой психики, ее подготовки к восприятию самых сложных впечатлений».
Когда Дар Ветер работает на титановых рудниках, правильно понять себя и вернуться к привычной деятельности помогла ему, как помнит читатель, «Космическая симфония» Зиг Зора. Гармоническое сочетание звуковых и зрительных образов потрясает и просветляет смятенную душу Дар Ветра. Он постигает глубокий смысл симфонии, повествующей о бесконечном восхождении жизни в борьбе с энтропией.
Понятие энтропии для людей эры Великого Кольца — это не только рассеивание энергии, приводящее к физической смерти, но и равнодушие, которое приводит к смерти нравственной.
«Океан высоких кристально чистых нот плескался сияющим, необычайно могучим радостным синим цветом. Тон звука все повышался, и сама мелодия стала неистово крутившейся, восходящей спиралью, пока не оборвалась на взлете, в ослепительной вспышке огня».
Сильно написанные страницы, откуда взята эта выдержка, интересны как попытка выразить словами мелодию и ритм музыкального произведения, построенного на совершенно новых принципах.
Еще романтики, а затем поэты-символисты и некоторые композиторы пробовали найти синтез звука и цвета, усматривая определенные соответствия между звучанием поэтического слова — образа и его цветовой «тональностью». Однако это не шло дальше вычурных и произвольных экзерсисов.
Ефремов, намечая вехи для синтетического искусства будущего, не только воспринял и конкретизировал идею звуковых и цветовых соответствий, но и подвел под нее своеобразный «научный» фундамент. Построение и ритмический рисунок симфонии Зиг Зора определяются якобы основными физическими законами. Главный из них — биологические ритмы развития наследственности, в которых композитор усматривает аналогию с движением музыкальной темы. «Программа, по которой идет постройка организма из живых клеток, — музыкальна», — утверждает он. Таков замысел «Космической тринадцатой симфонии фа-минор в синей цветовой тональности».
Примечательно, что мысли о музыке будущего были высказаны Ефремовым за несколько лет до изобретения советским инженером К. Л. Леонтьевым электронного инструмента, способного преобразовывать звуковую информацию в световую («Цветомузыка»). Каждому сочетанию звуков соответствует определенная гамма красок, вспыхивающая на экране.
Если в музыке выражение новых идей будет возможно только с помощью новых инструментов, созданных на базе электронной техники («солнечный рояль», «рояль-скрипка»), то в области изобразительного искусства, по мнению Ефремова, основы художественного мастерства не потерпят сколько-нибудь существенных изменений. Пусть появятся «хромкатоптрические краски», обладающие большой силой отражения света внутри слоя, пусть усовершенствуются приемы гармонизации цветов, — глаз художника останется прежним, ибо оптические законы неизменны.
Художник Карт Сан с огромным терпением и суровой взыскательностью работает над воссозданием исчезнувших расовых типов, желая «восстановить древние образы в высшем выражении красоты каждой из рас давнего прошлого, смешение которых образовало современное человечество». Его полотна, в которых сочетаются талант художника и знания ученого — археолога и этнографа, реалистичны в самом высоком понимании этого слова. В его уста вложена критическая оценка абстрактного искусства «древности», калечившего эстетические вкусы нескольких поколений людей эры Разобщенного Мира. В противовес ложным представлениям о художественной ценности «отвлеченной живописи» Карт Сан выдвигает свое понимание роли искусства.
«Искусство, по-моему, — говорит он, — отражение борьбы и тревог мира в чувствах людей, иногда иллюстрация жизни, но под контролем общей целесообразности. Эта целесообразность и есть красота, без которой я не вижу счастья и смысла жизни. Иначе искусство легко вырождается в прихотливые выдумки, особенно при недостаточном знании жизни и истории...»
Поиски высшей целесообразности, неотделимой от прекрасного, сказываются буквально во всем, начиная от архитектурного облика городов, отдельных зданий, отделки внутренних помещений, одежды, утвари и немногочисленных любимых вещей личного обихода и кончая человеком, с его богатым духовным миром и высокоразвитым чувством красоты.
Унылый урбанизм, под знаком которого развивалась архитектура XX века, не имеет доступа в города будущего, созданные воображением писателя. Градостроительство в его романе идет по двум направлениям. Описания городов «пирамидальной» и «спирально-винтовой» архитектуры пластичны, зримы и глубоко продуманы с точки зрения рациональной планировки и эстетических пропорций.
Вот как выглядит один из таких городов.
«...Крутая спираль, светившаяся на солнце миллионами опалесцировавших стен из пластмассы, фарфоровыми ребрами каркасов из плавленого камня, креплениями из полированного металла. Каждый ее виток постепенно поднимался от периферии к центру. Массивы зданий разделялись глубокими вертикальными нишами. На головокружительной высоте висели легкие мосты, балконы и выступы садов. Искрящиеся вертикальные полосы контрфорсами спадали к основанию, где шли широкие лестницы между тысячами аркад. Они вели к ступенчатым паркам, лучами расходившимся к первому поясу густых рощ. Улицы тоже изгибались по спирали — висячие по периметру города или внутренние, под хрустальными перекрытиями».
В эру Великого Кольца исчезает узкая профессионализация и в области искусства. Вероятно, нет ни одного человека, который не был бы так или иначе к нему причастен.
Астроном «Тантры» Ингрид Дитра и ее друг инженер Кэй Бэр во время полета, в свободные часы, пишут симфонию «Гибель планеты», навеянную трагедией Зирды.
Историк Веда Конг с успехом исполняет песни на всенародном празднике, а биолог Чара Нанди удостоена высших почестей как лучшая танцовщица.
«Наша культура, — говорит Веда Конг, — долго оставалась насквозь технической и только с приходом коммунистического общества окончательно встала на путь совершенствования самого человека, а не только его машин, домов, еды и развлечений».
Совершенствование самого человека — это не только непрерывное обогащение его внутреннего мира, но и забота о красоте тела и постоянная закалка организма. Спорт становится разновидностью искусства. Гимнастические упражнения, спортивные игры и соревнования, пластика и танцы, доведенные до высшей отточенности, занимают большое место в жизни каждого человека.
Руководитель археологической экспедиции Фрит Дон известен как замечательный бегун и победитель весенних десятиборий. Ученый Мвен Мас устанавливает рекорды по прыжкам на дальность со специальным гелиевым аппаратом. Маленькая Миико Эйгоро побеждает могучего Дар Ветра в соревновании по прыжкам в воду и подводному плаванию.
Можно отметить, что и в области спорта люди отказались от односторонних увлечений, которые не могут способствовать гармоническому развитию. Та же Чара Нанди, не уступающая в беге Фрит Дону, великолепно владеет таким трудным видом спорта, как скольжение по волнам океана на «лате» — доске с аккумулятором и мотором.
Много внимания уделено в романе всенародным празднествам. Но это уже не олимпиады прошлого, ограниченные показом только спортивных достижений, и не фестивали искусств, собирающие в наше время юношей и девушек разных стран, и не те массовые зрелища, о которых мечтал в свое время Ромен Роллан. Всенародные празднества грядущих веков — это прежде всего грандиозные смотры замечательных поступков и достижений, совершенных за год во всех областях жизни. Таков, например, праздник Геркулеса, который делится на дни Прекрасной Полезности, Высшего Искусства, Научной Смелости и Фантазии.
Более подробно рассказано о весеннем празднике Пламенных Чаш. Самые красивые женщины Земли показывают свое искусство в танцах, песнях и гимнастических упражнениях, доставляя зрителям высшую эстетическую радость. В гигантском солнечном зале Тирренского стадиона встречаются в этот день почти все герои романа.
Праздник Пламенных Чаш связан с древнеиндийским обычаем «выбирать красивейших женщин, которые подносили отправлявшимся на подвиг героям боевые мечи и чаши с пылавшей в них ароматной смолой. Мечи и чаши давно исчезли из употребления, но остались символом подвига».
Память о древнем индийском обычае и сохранилась в названии праздника Пламенных Чаш, точно так же, как память о прекрасных мифах Эллады — в подвигах и празднике Геркулеса и в «играх Посейдона» — всемирных соревнованиях по всем видам водного спорта.
В древних мифах и в культуре Эллады Ефремов видит выражение той гармонии красивого тела и здорового духа, которая запечатлена в лучших памятниках античного искусства.
В своем понимании непреходящей эстетической ценности культурного наследия Греции он исходит из известного положения Маркса: «Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца». По мнению Маркса, греческое искусство сохраняет свое обаяние именно потому, что оно отражает ту раннюю ступень истории, когда человеческое общество переживало свое детство. «И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?»[56]
Естественно, что в коммунистическом обществе будущего, когда человек полностью обретет свою человеческую сущность, к нему вернется непосредственное ощущение всех радостей бытия и бесконечной красоты окружающего его мира.
Ефремов — историк по всему своему складу. Об этом мы не раз уже говорили. Духом историзма пронизаны все его произведения — и «Рассказы о необыкновенном», и «Звездные корабли», и повести о древнем Египте, и «Туманность Андромеды», в которой он смело перебросил мост из глубины веков к сияющим далям человечества. Выступая всегда как материалист-диалектик, он рассматривает любое явление в его поступательном движении, от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему.
Поэтому в романе так много напоминаний о нашем времени, взрастившем первые всходы посева Великой Октябрьской революции.
Можно целиком согласиться с критиком А. Синявским, отметившим в романе то главное, что приближает его к нашим дням: «Как бы ни была удалена от нашего времени «Туманность Андромеды», какими бы неожиданностями ни поражали нас герои этой книги, между ними и нами существует родственная близость... Герои Ефремова, живущие через тысячу лет после нас, так же устремлены вперед и думают о своем будущем — о будущем будущего, как мы думаем о них».[57] И потому книга Ефремова действительно не имеет «потолка», как не имеют пределов человеческая мечта и познание.
Таким образом, проблема Времени предстает в романе в разных аспектах: и как философская категория, и как непрерывный исторический процесс.
С одной стороны, вечность времени понимается прежде всего в том смысле, что несотворимая и неуничтожимая материя и в высших формах своего развития имела и будет иметь бесконечное существование. А с другой стороны, все находится в движении, возникает, развивается и уходит в прошлое. Пытливая мысль стремится вперед, к еще более совершенным формам жизни и познания. Лавина времени все сметает со своего пути, но великое завоевание мысли и лучшие традиции мировой культуры не исчезают и не забываются. Люди, замышляя новые великие дела, как святыню берегут в памяти свое прошлое...
Кроме оживших традиций крито-эллинской культуры им не менее дороги и сокровища других древних цивилизаций. Они любят стихи поэтов разных времен и народов, старинные легенды и сказания, отбирают для себя крупицы мудрости из древнеиндийской философии, тщательно берегут сохранившиеся памятники старины и т.д.
Библиотека-лаборатория звездолета «Лебедь», навсегда покинувшего Землю, украшена гордым и печальным изречением индейцев Центральной Америки — майя: «Ты, который позднее явишь здесь свое лицо! Если твой ум разумеет, ты спросишь: кто мы? Кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси любовь. Спроси землю, землю страдания и землю любимую. Кто мы? Мы — земля!»
И Земля раскрывает людям тайны своего прошлого.
Осмыслению исторической преемственности специально посвящены в романе три главы: «Река времени», «Конь на дне морском» и «Стальная дверь».
Дар Ветер и Веда Конг из-за аварии винтолета оказываются в стороне от ближайшего города — в Сибирской степи, превращенной в гигантское пастбище для скота.
В медленном ритме развертывается повествование. Очутившись лицом к лицу с величавой, спокойной природой, невольные странники размышляют о судьбах человечества и как бы заново перечитывают суровую летопись Земли.
«Неспешно сменяя одна другую, проходили в памяти картины давно прошедших времен — длинной чередою шли древние народы, племена, отдельные люди... Будто текла оттуда, из прошлого, огромная река меняющихся с каждой секундой событий, лиц и одежд».
И Дар Ветер, привыкший мыслить в масштабах космоса, особенно остро чувствует себя в эту минуту сыном Земли и сознает, что бесконечные страдания, борьба и жертвы многочисленных поколений были не напрасны, что только благодаря им человечество смогло подняться на такую высокую ступень своей истории.
Раскопки скифского кургана и «археологические» находки, относящиеся к эре Разобщенного Мира — исполинский золотой конь на дне морском и тайник с «сокровищами цивилизации», — заставляют героев еще более глубоко понять, насколько несправедливым и страшным был общественный строй, основанный на угнетении человека человеком.
Какой уродливой казалась им эта бездушная механическая цивилизация давно минувших времен, символически выраженная в чудовищном золотом коне, в ржавых машинах и, возможно, даже в смертоносном оружии, упрятанном за стальной дверью тайника!
Не сомневаясь в вечном и неизменном существовании «западной культуры» и в превосходстве так называемого «белого человека», самонадеянные правители кичились достижениями своей техники, с презрением относясь к прошлому и не видя будущего.
Создатели этого музея машин, по-видимому, признавали только материальные ценности и пренебрегали высшими достижениями духовного развития человека. Поэтому Веда Конг и ее помощники тщетно искали в подземном хранилище памятники науки, искусства и литературы. Эти страницы содержат прозрачные намеки на стандартизованный американский «образ жизни».
Следы омертвелой капиталистической цивилизации, едва не приведшей к гибели всю планету, как это случалось уже неоднократно на других мирах, предстают и в мрачном пейзаже Аризонской степи, которая служила на заре ядерной энергии полигоном для испытаний атомного оружия и даже несколько веков спустя, после искусственного изменения климата, осталась пустыней, зараженной продуктами радиоактивного распада.
Громадные запасы ужасных термоядерных бомб, оставшихся от эры Разобщенного Мира, с наступлением коммунизма пытались использовать для производства энергии. Но когда поняли большую опасность излучения, все расщепляющиеся материалы были выброшены за пределы земной атмосферы!
Осуждая варварские цивилизации прошлого, люди эры Великого Кольца с глубокой признательностью вспоминают тех, кто вел борьбу за будущее.
«Их будущее — наше настоящее, — взволнованно восклицает Веда Конг. — Я вижу множество женщин и мужчин, искавших света в узкой, небогатой жизни, добрых настолько, чтобы помогать другим, и сильных настолько, чтобы не ожесточиться в моральной духоте окружающего мира. И храбрых, безумно храбрых!..»
Вспоминают они не только бесстрашных революционеров, но и мужественных людей труда, самоотверженных деятелей науки, проникавших в тайны природы, и беззаветных смельчаков, распахнувших окно в звездный мир. Люди поют о них песни, композиторы посвящают им симфонии, ваятели воздвигают в их честь великолепные памятники.
Станцию Экватор на самой широкой спирали электрической дороги украшает памятник создателям первых искусственных спутников. На пирамидальном основании «стояло изваяние человека в рабочем комбинезоне эры Разобщенного Мира. В правой руке он держал молоток, левой высоко поднимал вверх, в бледное экваториальное небо, сверкающий шар с четырьмя отростками передающих антенн».
И всякий раз, когда Дар Ветер глядел на этот памятник, он с гордостью думал, что «люди, построившие самые первые искусственные спутники и вышедшие на порог космоса, были русскими, то есть тем самым удивительным народом, от которого вел свою родословную Дар Ветер. Народом, сделавшим первые шаги и в строительстве нового общества, и в завоевании космоса...»
По охвату материала «Туманность Андромеды» — произведение почти энциклопедическое. Автор, создавая облик грядущего мира, старается проникнуть во все сферы общественной жизни — человеческих отношений, науки, техники, философии, психологии, морали, искусства. Синтетический замысел и стремление раскрыть явления во всеобъемлющем комплексе определяют композицию, художественные приемы, язык и стиль романа.
Подавляющее большинство писателей-фантастов показывают будущее глазами своего современника. Существует несколько несложных литературных рецептов, помогающих без особого труда перенести изумленного героя на несколько веков вперед. Делается это очень просто: человека сажают в «машину времени», погружают, в длительный летаргический сон или замораживают, а иногда, ничтоже сумняшеся, заставляют переступить роковой предел и вторгнуться в мир... четвертого измерения.
И для космической темы также существует набор своих стандартов: затяжная подготовка к старту, состояние невесомости, хлопоты, причиняемые неожиданно появившимся «межпланетным зайцем», приключения на чужой планете и благополучное возвращение на Землю.. . Когда прочитываешь подряд несколько таких утомительно однообразных книг, создается впечатление, что тебя пустили не в бесконечный космос, а заперли в тесную камеру, где выверен каждый шаг и хорошо известна каждая трещинка на стене.
Ефремов выбрал иной путь, гораздо более трудный. Он поставил своей задачей — взглянуть на мир завтрашнего дня не извне, а изнутри, из будущего смотреть в прошлое, стать современником людей, о которых он пишет. Поэтому его героям, живущим через несколько столетий после нас, нет надобности удивляться достижениям созданной ими техники и чувствовать себя первооткрывателями космоса. Вместе с новыми масштабами мысли меняется отношение и к земным делам, и к задачам освоения Вселенной.
Автор хорошо передает ощущение необычной для нас обстановки и напряженно интеллектуальной атмосферы творческих исканий, окружающей людей той отдаленной эпохи. Несомненный эффект сопричастности читателя к изображенному в романе миру будущего достигается разнообразными способами. Прежде всего — это тщательное обоснование замысла в рамках фантастического сюжета — от самых грандиозных обобщений до мельчайших деталей. Это также единый психологический «настрой», выдержанный в отношении всех событий, поступков и явлений, которые преломляются сквозь призму сознания людей эры Великого Кольца, сознания, очищенного от досадных мелочей и приспособленного к отвлеченному, теоретическому мышлению.
На всем протяжении повествования выдержан тон рассказа современника событий, для которого все, что он видит и знает, так же привычно и обыденно, как для нас наши вещи, научные термины, общественные явления и т.д. Подобно тому как в «Путешествии Баурджеда» все происходящее видится как бы глазами древнего египтянина, так и здесь эра Великого Кольца — глазами человека будущего.
Этот художественный прием поначалу вызывает затруднения, приблизительно такие же, какие возникают при чтении исторического романа, перенасыщенного фактическим материалом. Но постепенно осваиваешься с законами этого необычного мира и начинаешь верить в него, подходить к нему с теми мерками, которые установлены самим автором, продумавшим все причины, и следствия, вытекающие из его фантастических допущений.
Сказывается это даже в мелочах. Низа Крит, разговаривая с Эрг Ноором, «тряхнула рыжими кудрями, уже требовавшими очередной стрижки». Тут же автор поясняет: «женщины во внеземных экспедициях не носили длинных волос».
В другом месте мы читаем: «Язык символов, чертежей и карт Великого Кольца оказался легко постигаемым на достигнутом человечеством уровне развития. Через двести лет мы могли уже переговариваться при помощи переводных машин...» Слово «легко» в сочетании с «уже» создает в таком контексте представление о необычайной масштабности событий.
Уровень, достигнутый наукой, приблизил человечество к овладению так называемой «третьей сигнальной системой», когда люди будут общаться не только через слово, но и непосредственно улавливать волны чужих эмоций, образов, мыслей. Однако мы узнаем, что развитие «третьей сигнальной системы» умышленно задерживается, так как требует большой затраты сил и ослабляет центры торможения.
Подобных примеров можно было бы привести очень много.
Ощущение временной дистанции достигается также некоторой приподнятостью речи. Автор старательно избегает вульгарных оборотов, бытовизмов, специфических речений наших дней. Предполагается — об этом мы уже говорили, — что население всей Земли давно уже выработало некий единый, общий язык. Здесь Ефремова подстерегала опасность заставить героев думать и объясняться на удручающе правильном, книжно-интеллигентском языке-жаргоне. В общем, даже и при наличии стилистических шероховатостей и тяжелых оборотов речи, автор избежал этой опасности. Чудесные космические «пейзажи», красочные описания научных экспериментов, произведений искусства, архитектурных сооружений, спортивных состязаний, народных зрелищ — все это выдержано в одном художественном ключе.
Мы уже говорили, что метод художественного изображения имеет у Ефремова много общего с работой палеонтологов и археологов, когда ученые по мельчайшим данным — обломку кости или черепку — воссоздают целые картины прошлого, делая широкие выводы об уровне биологического или социального развития. Нечто подобное мы находим и в «Туманности Андромеды», с той, однако, разницей, что здесь Ефремов, отталкиваясь от типичных явлений нашей современности, показывает их в далекой перспективе и, таким образом, становится как бы «социальным археологом» будущего.
Ефремов так объяснил нам свою творческую позицию:
— Поставив целью написать научно-фантастический роман о будущем обществе, который основывался бы на коммунистической идеологии и материалистическом видении мира, я взял нашу современность, но не перенес ее механически в будущее, как делается обычно в зарубежной научной фантастике, а иногда и в нашей литературе, а, наоборот, отодвинул в прошлое и из этого прошлого, руководствуясь марксистско-ленинской теорией общественного развития, стал выводить будущее. Большую помощь оказали мне в этом исторические науки. Отсюда в романе так много возвращений к нашему времени, так много исторических отступлений, за что меня часто упрекают. В какой-то степени это справедливо. Но для замысла «Туманности Андромеды» это было совершенно необходимо, ибо к нашему настоящему я относился как к далекому прошлому...
Конечно, решение такой сложной задачи вызывает и некоторые художественные потери (схематизм образов, излишняя рационалистичность, усложненность лексики и т.п.). Автору было бы неизмеримо легче поставить обычных людей в необычные условия. Тогда они, возможно, казались бы менее отстраненными и не столь условными, но тем самым разрушился бы весь идейно-художественный замысел.
Можно не соглашаться с отдельными частностями и домыслами, можно по-другому представлять себе быт и личные взаимоотношения наших отдаленных потомков, можно видеть их более «земными», с большим количеством недостатков и человеческих слабостей, но нельзя не признать силы логики Ефремова, последовательно аргументирующего все свои положения.
Отсюда и жанровое своеобразие этого романа, лишенного привычных атрибутов приключенческой фантастики. Даже в космических главах, написанных в более привычной манере, острые сюжетные повороты — борьба с чудовищами планеты Тьмы, раскрытие тайны звездолета «Парус» и гигантского спираллодиска из другой галактики — нужны автору не ради внешней занимательности, но главным образом для выдвижения новых научных гипотез и раскрытия поведения людей будущего.
«Земные» главы, перемежающиеся с космическими, строятся вокруг событий большого общественного значения: передача информации по Великому Кольцу, Тибетский опыт и его последствия, восстановление искусственного спутника Земли, праздник Пламенных Чаш и — как апофеоз романа — торжественные проводы Тридцать восьмой звездной экспедиции и первый прием сообщения из туманности Андромеды.
Сюжетные сцены чередуются в романе с разговорно-описательными, статичными, замедляющими темп действия. Многочисленные отступления и научные экскурсы, усложняющие восприятие этого многопланового романа, могут показаться скучными и ненужными только при поверхностном чтении. Но в действительности это — самая сильная сторона творчества Ефремова. Чем больше вчитываешься в книгу, тем больше находишь в ней материала для размышлений.
Кажется, нет ни одной волнующей нас проблемы, которая прошла бы мимо внимания автора. Почти о любом вопросе он судит во всеоружии последних достижений науки, проявляя основательную осведомленность в разных областях знания.
Так как все эти многочисленные идеи и рассуждения на самые разные темы невозможно включить в само действие, автор вынужден раскрывать их в диалогах, которые, на первый взгляд, имеют лишь служебно-информационный характер. Тем, кто следит только за развитием фабулы, может показаться также излишней и перенасыщенность прямой речи сложной научной терминологией. Но то и другое — отнюдь не художественный просчет, а вполне сознательный прием, единственная возможность уложить в роман все, что писателю хотелось сказать.
Мы уже упоминали о новых отраслях знания, придуманных Ефремовым. Многочисленные неологизмы образуются в большинстве случаев из составных греческих и латинских слов, используемых и в наше время для создания международных научных терминов. Это помогает автору углубить содержание романа, потому что в каждом термине скрыт какой-то обобщенный смысл, расшифрованный к тому же в примечании (анамезонное горючее, электронные стереотелескопы, ионно-триггерные моторы, гемисферный экран, органические стимуляторы, термобарооксистат, силикобор, обертонные диафрагмы и т.д. и т.п.).
Каждый такой термин нередко содержит в себе целую научную гипотезу. Например, изогравы — линии, очерчивающие поля равного напряжения тяготения; или оптимальный радиант — радиус обращения звездолета вокруг планеты вне ее атмосферы, который наиболее благоприятен для устойчивости орбиты космического корабля. Несмотря на предельную лаконичность мысли, выраженной в одном фантастическом термине, он вполне заменяет пространные рассуждения на ту же тему.
«Особенностью романа, не сразу, может быть, понятной читателю, — замечает Ефремов в предисловии, — является насыщенность научными сведениями, понятиями и терминами. Это не недосмотр или нежелание разъяснять сложные формулировки. Только так мне показалось возможным придать колорит будущего разговорам и действиям людей времени, в которое наука должна глубоко внедриться во все понятия, представления и язык».
Но, рисуя отдаленное будущее, Ефремов явно недостаточно показал роль и значение кибернетических механизмов, вернее сказать, слабо разработал философскую сторону органического врастания кибернетики в жизнь общества и обязательное отражение этого процесса в сознании, языке и поступках героев романа. В частности, применительно к языку люди эры Великого Кольца не только должны «научить» машины логическому мышлению, но и в свою очередь научиться от них предельно сжато, точно и лаконично выражать свои мысли.
Если в отвлеченных рассуждениях и «информационно-служебных диалогах» автор бывает труден для беглого восприятия, то его манера меняется, когда он переходит к изображению конкретно представимых вещей.
С чисто фламмарионовской романтичностью написаны страницы, посвященные звездному миру. Ограничимся только одним примером. Когда Мвен Мас смотрит на небо, вытканное узорами созвездий, они кажутся ему особенно яркими и близкими, а древние их названия звучат как имена друзей. «Распростертый вверху, в Млечном Пути, Лебедь, одно из интереснейших созвездий северного неба, уже потянулся к югу своей длинной шеей. В нем горит красавица двойная звезда, названная древними арабами Альбирео. На самом деле там три звезды: Альбирео I, двойная и Альбирео II — огромная голубая далекая звезда с большой планетной системой. Она почти на таком же расстоянии от нас, как и гигантское светило в хвосте Лебедя Денеб, — белая звезда светимостью в четыре тысячи восемьсот наших солнц...»
Встреча Дар Ветра и Веды Конг с группой палеонтологов во главе с Ляо Ланом, раскрывшим загадку заселения Азиатского материка в палеозойской эре, служит автору удобным поводом для введения описания вымерших животных.
«Широкий, параболический, плоский, как тарелка, череп земноводного — древней саламандры, обреченной лежать в теплой и темной воде пермского болота в ожидании, пока что-либо съедобное не приблизится на доступное расстояние. Тогда — быстрый рывок, широкая пасть захлопывалась, и... снова бесконечно терпеливое, бессмысленное лежание».
Конечно, такое красочное описание нужно автору не для того, чтобы рассказать «просто так» об ископаемых животных. Оно входит звеном в цепь рассуждений о биологической эволюции, приведшей к возникновению человека. А дальше речь идет о ходе истории, полной страданий и невысказанных трагедий, приведшей в конце концов человечество на вершину его развития.
Так же запоминается картина раскопок скифского кургана, где был захоронен старый вождь, окруженный оружием и утварью, костяками лошадей и рабов, и вместе с ним его молодая жена, чтобы сопровождать вождя в неведомых загробных странствиях.
Оставляет сильное впечатление и описание диких орд кочевников, гнавших перед собой по сибирским степям толпы полонянок и рабов, захваченных в сожженных и разграбленных селениях.
Свойственное Ефремову точное и конкретное видение мира находит свое выражение и в великолепных пейзажных зарисовках. Вот как изображена земля Грахама. Это — часть Антарктиды, где царит ледяное безмолвие. Совершенно новый облик принимает она в эру Великого Кольца:
«Поздневесенняя полярная ночь высветила и уравняла все краски в своем особенном белесоватом свете, как будто исходившем из глубины неба и моря. Солнце скрылось на час за плоскогорием на юге. Оттуда широкой аркой всплывало величественное сияние, раскинувшееся по южной части неба. Это был отблеск могучих льдов антарктического материка, сохранившихся на высоком горбе его восточной половины, отодвинутых волей человека, оставившего лишь четверть прежнего колоссального щита ледников. Белая ледяная заря, по имени которой и назывался санаторий, превратила все окружающее в спокойный мир легкого света без теней и рефлексов».
А вот пример «космического» пейзажа — описание одной из планет Веги:
«Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные иззубренные стены красных, как свежие раны, черных, как бездны, каменных масс. На обдутых, бешеными вихрями плоскогорьях из вулканических лав виднелись трещины и провалы, источавшие раскаленную магму и казавшиеся жилами кровавого огня.
Высоко взвивались густые облака пепла, ослепительно голубые на освещенной стороне, непроницаемо черные на теневой. Исполинские молнии в тысячи километров длины били по всем направлениям, свидетельствуя об электрической насыщенности мертвой атмосферы.
Грозный фиолетовый призрак огромного солнца, черное небо, наполовину скрытое сверкающей короной жемчужного сияния, а внизу, на планете, — алые контрастные тени на диком хаосе скал, пламенные борозды, извилины и круги, непрерывное сверкание зеленых молний...»
Этот абсолютно фантастический пейзаж поражает зримой конкретностью деталей. По такому описанию художнику было бы легко создать целую картину.
«Туманность Андромеды» принадлежит к тому типу произведений, которые со дня своего появления вызывают непрекращающиеся, порою ожесточенные споры. Не говоря уже об отдельных положениях, характеризующих социальный и научный прогресс, предметом полемики становится главным образом облик человека будущего.
Поскольку об этом достаточно подробно говорилось, хочется только заметить, что изображение нового человека — самая трудная и до сих пор не решенная задача научной фантастики.
В этой связи будет уместно напомнить известные слова М. Е. Салтыкова-Щедрина, обращенные им к хулителям романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»:
«Он не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных».
К этому Салтыков-Щедрин добавил, что всякий здравомыслящий человек сумеет отличить живую разумную идею от сочиненных деталей общества будущего.
Эти слова в полной мере можно отнести и к роману Ефремова — сложному философскому произведению, которое требует от читателя большой вдумчивости, широты кругозора и даже известной научной подготовки.
Чем больше в произведении мыслей, тем больше оно порождает споров.
«Туманность Андромеды» можно назвать эпосом мысли и эпосом мечты.
В небольшой повести «Cor Serpentis (Сердце Змеи)» Ефремов продолжает развивать свои идейные и творческие принципы. Это произведение воспринимается как эпилог, как завершающий аккорд «Туманности Андромеды».
— Я написал «Сердце Змеи» осенью 1958 года, — говорил нам писатель. — Замысел «Туманности Андромеды» не позволил мне показать непосредственную встречу землян с разумными существами другого мира. Между тем этот контакт чрезвычайно часто и, как мне кажется, совершенно неверно обыгрывается в зарубежной научной фантастике. Я чувствовал себя в неоплатном долгу перед читателями. Едва только кончив роман, который стоил мне большего напряжения, чем любая другая моя книга, я принялся за эту маленькую повесть, взяв отправной точкой ту мысль, что в космосе возможна встреча лишь представителей самых совершенных цивилизаций...
После Тибетского опыта Мвен Маса и Рен Боза прошло, вероятно, несколько столетий. Тридцать восьмая звездная экспедиция во главе с Эрг Ноором давно уже достигла зеленой циркониевой звезды, отдаленной от Земли на двадцать один парсек — семьдесят световых лет... Но, чтобы до таких пределов раздвинуть горизонты Вселенной, смельчакам пришлось пожертвовать всеми радостями Земли и провести большую часть жизни в тесной скорлупе звездолета. А для экипажа «Теллура» из повести «Сердце Змеи» двадцать один парсек — всего лишь одна пульсация.
Созданные по совершенно новому принципу «сжатия времени», пульсационные звездолеты передвигаются в «нуль-пространстве» со скоростью, в тысячи раз превосходящей старые ракетные корабли с «анамезонными» двигателями. Каждая «пульсация», переносящая астролетчиков на десятки световых лет, увеличивает бездну времени между Землей и звездолетом.
Для участников экспедиции на «Теллуре» пройдет каких-нибудь три-четыре года, а на Земле — не менее семи столетий... На родную планету они вернутся как выходцы из далекого прошлого, как тени оживших преданий... Выполняя свой долг перед человечеством, командир «Теллура» и его спутники уходят от современников, как уходят из жизни умершие. Но к печали расставания примешивается и горделивое чувство: они не вернутся чужими, они принесут новым людям свои жизни и сердца, отданные будущему, принесут на планету крупицы знаний, которые послужат новому взлету науки.
Да, конечно, они потеряют не только родных и близких, но не увидят даже внуков своих внуков.
«Но там, в наступающем грядущем, — думает командир звездолета Мут Анг, — нас ждут не менее близкие, родные люди, которые будут знать и чувствовать еще больше, еще ярче, чем покинутые нами навсегда наши современники...»
Перед экспедицией «Теллура» поставлена конкретная задача — приблизиться к «темной» углеродной звезде в созвездии Геркулеса и изучить загадочные процессы превращения материи, важные для земной энергетики. Объект исследования находится сравнительно недалеко от Солнца — «всего лишь» в ста десяти парсеках. Пройдет еще какое-то время, и земные астролетчики будут совершать дальние космические рейсы — на другие галактики и возвращаться на родную планету миллионы лет спустя... Экипаж «Теллура» выполнил свою задачу и уверенно устремился в обратный путь — к Солнцу. И тут случилось невероятное: зеркало локатора отразило сильный луч, подобный тому, какой бросал впереди себя «Теллур». «Светящаяся точка на экране погасла, зажглась снова и замигала с промежутками, учащая вспышки по четыре и две. Эта регулярность чередования могла быть рождена лишь единственной во всей Вселенной силой — человеческой мыслью». Сомнений больше не оставалось — навстречу шел чужой звездолет...
Далее идут блестящие страницы, где глубина мысли сочетается с большим эмоциональным накалом. Какими будут они, эти высокоразумные обитатели неведомой планеты? К чему приведет предстоящая встреча «Теллура» с чужим звездолетом?
Идеи, намеченные Ефремовым в «Звездных кораблях» и в «Туманности Андромеды», получают здесь дальнейшее развитие и более развернутую аргументацию.
Как мы помним, по мнению Ефремова, облик человека — единственного на Земле существа с мыслящим мозгом — сложился не случайно. В процессе длительной эволюции выявилась конструктивная целесообразность организма, способного нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайную активность нервной системы. В условиях Земли палеонтология показывает, с какой железной закономерностью соблюдались образование и эволюция высших жизненных форм. Различные катаклизмы прерывали этот процесс, но затем на новых ступенях развития возникали новые виды животных, подобные прежним. Теоретически можно предположить, что на какой-то планете, в особых, специфических условиях, мыслящее существо произошло от животных вроде саблезубого тигра или даже какого-нибудь пресмыкающегося, но это будет частный случай, отклонение от допустимых средних условий.
Эта же мысль вложена и в уста биолога звездолета «Теллур» Афры Деви:
«Рога мыслящему существу не нужны и никогда у него не будут, — утверждает она. — Нос может быть вытянут наподобие хобота (хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен). Это будет частный случай, необязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически, в результате естественного отбора, становится закономерностью, неким средним из множества отклонений. Тут-то выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность. И я не жду рогатых и хвостатых чудовищ во встречном звездолете — там им не быть! Только низшие формы жизни очень разнообразны; чем выше, тем они более похожи друг на друга».
Напомним в связи с этим исполненные иронии строки из письма Владимира Ильича, адресованного М. И. Ульяновой:
«Сегодня прочел один забавный фельетон о жителях Марса, по новой английской книге Lowell'я — «Марс и его каналы». Этот Lowell — астроном, долго работавший в специальной обсерватории и, кажется, лучшей в мире (Америка). Труд научный. Доказывает, что Марс обитаем, что каналы — чудо техники, что люди там должны быть в 22/3 раза больше здешних, притом с хоботами, и покрыты перьями или звериной шкурой, с четырьмя или шестью ногами». И дальше, имея в виду утопический роман А. Богданова «Красная звезда», Ленин добавляет: «Н... да, наш автор нас поднадул, описавши марсианских красавиц неполно, должно быть по рецепту: «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...»[58]
«Неполноту» марсианских красавиц (отсутствие хобота и шести ног) с лихвой возместили писатели-фантасты многих стран, начиная с Герберта Уэллса.
Что до Ефремова, то он твердо уверен, что никаких мыслящих чудовищ, человеко-грибов, людей-осьминогов или разумных саламандр быть не может. Маловероятно и существование кремниево-органической жизни, возможность которой допускают некоторые фантасты: кремниевая молекула едва ли способна превзойти азотно-кислородную систему протеиновых молекул, являющуюся основой основ человеческой жизни. Поэтому заметим, несколько забегая вперед, что наличие фторовой формы жизни — это, по словам самого Ефремова, крайняя степень фантастики, хотя энергетика фтора сильнее энергетики кислорода и, следовательно, во фторовой атмосфере жизнь, как форма существования белковых тел, теоретически допустима.
Таким образом, члены экипажа «Теллура» еще до встречи с «чужими» приходят к заключению, что высшая целесообразность красоты любого организма, приспособленного к умственной деятельности, исключает какие-либо другие формы, кроме приближающихся к человеческому телу.
Но тут возникает другой вопрос. А что, если чужие существа, похожие на людей Земли, окажутся бесконечно далекими по разуму, по своим представлениям о мире и жизни? В таком случае, как полагает астронавигатор Кари Рам, встреча может привести к враждебному столкновению.
Нет, возражает ему Мут Анг, «на высшей ступени развития никакого непонимания между мыслящими существами быть не может. Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего космоса. В этом смысле человек — микрокосм. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких «иных», совсем непохожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы...».
Отсюда вытекает и дальнейший ход рассуждений. На всех обитаемых мирах, разделенных чудовищными провалами пространства и времени, борьба разумных существ за свободу тела и духа должна была привести к приблизительно сходным результатам. Эти результаты должны быть сходными не только относительно эволюции жизненных форм и родственности интеллекта, но и организации самого общества. Всякое человечество, доросшее технически до расселения в космосе, не может не стоять на высшей ступени нравственного, а следовательно, и социального развития!
В раскрытии этой идеи и заключается высокий гуманистический пафос произведения.
Два звездолета безбоязненно идут на сближение. Луч локатора чужого корабля не кажется землянам недобрым, как красновато-желтый отблеск зловещего светила в созвездии Змееносца. Нет, ни у тех, ни у других не может быть в сердце змеиной злобы, не могут таиться коварные помыслы! Ведь и те, в другом звездолете, тоже должны были миновать самую трудную, критическую ступень своего восхождения, должны были страдать и гибнуть, пока не построили настоящее, мудрое общество. Ведь и полет «Теллура» мог бы не состояться, если бы много веков назад в России не появилось «первое социалистическое государство, положившее начало великим изменениям в жизни планеты».
В нетерпеливом ожидании встречи, мысли людей невольно обращаются к седой старине, когда правящая каста капиталистического мира старалась задержать поступательный ход истории и делала все возможное, чтобы разобщить государства и народы, посеять вражду и мрачную подозрительность. Какими убогими и уродливыми представляются теперь «предвидения» древних писателей-фантастов, которые переносили в космос современные им общественные отношения и уродливые нравы — истребительные войны, эгоизм человека-собственника, расовую ненависть и другие пороки и предрассудки «эры Разобщенного Мира»!
Каждая воображаемая встреча в космосе приводила либо к взаимному истреблению, либо, в лучшем случае, служила подтверждением пессимистических выводов о невозможности установления каких бы то ни было контактов между обитателями разных планет.
И в подтверждение этого Мут Анг знакомит своих товарищей с одним из типичных сюжетов американской фантастики XX века. В рассказе, озаглавленном «Первый контакт», изображалась встреча земного звездолета с другим — откуда-то из Крабовидной туманности. Обман, лживая дипломатия, тайные интриги, ультиматумы, захват чужого корабля — вот к чему свелся этот первый «контакт»!
Рассказ, упоминаемый Ефремовым, не выдуман. Он принадлежит перу современного американского писателя Меррея Лейнстера и перекликается с другим, не менее типичным рассказом тоже американца, Артура Порджеса, — «Руум». Действие в нем начинается двести миллионов лет назад, когда на Земле был век рептилий. Звездный крейсер «Илкор» оставил на молодой планете самозаряжающуюся кибернетическую модель для сбора образцов земной фауны. В пути, у звезды Ригель, «крейсер столкнулся с плоским кольцеобразным рейдером; и когда неизбежный огненный бой окончился, оба корабля, полурасплавленные, радиоактивные, начали вращаться со своими мертвыми экипажами вокруг звезды по миллиардолетней орбите...»
И первое, на что обращают внимание, знакомясь с подобными рассказами, члены экипажа «Теллура», — полное несоответствие времени действия и психологии героев, «ничем не отличающихся от принятых во времена капитализма, много веков назад».
В «Сердце Змеи» Ефремов выступает как психолог, передающий сложную гамму мыслей, чувств и переживаний людей, готовящихся к первой встрече с разумными существами другой звездной семьи. При этом самый образ мышления его героев находится в соответствии с временем действия, то есть отражает высочайший уровень социальной организации и научных знаний эпохи расцвета мирового коммунизма.
Восторженным одобрением встречают молодые участники звездной экспедиции слова своего командира:
«Мы, наши корабли — руки человечества Земли, протянутые к звездам, и эти руки чисты! Но это не может быть только нашей особенностью. Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки!»
И вот наконец долгожданная встреча состоялась. Она была очень кратковременной, так как белый звездолет «чужих» мог задержаться только на одни земные сутки. И несмотря на то что непосредственный контакт, к величайшему огорчению тех и других, был исключен — фтор так же смертелен для людей Земли, как кислород для жителей планеты Тау Змееносца, — сразу же установилось взаимопонимание.
Более того, узнав о трагическом одиночестве во Вселенной «фторовых людей» (атмосфера, которой они дышат, редчайшее исключение, своего рода аномалия), биолог Афра Деви подсказывает им дерзкий план возможной биологической революции: путем воздействия на механизм наследственности заменить фторный обмен веществ на кислородный.
И в минуту расставания приветственные жесты тех и других уже «не походили на знак прощания, а ясно говорили о будущих встречах».
Эта очень содержательная, и богатая мыслями повесть воспринимается как поэтическое подтверждение афоризма одного из ее героев: человек ничтожно мал и мгновенен в своей физической сущности и велик, как Вселенная, которую он объемлет рассудком и чувствами во всей бесконечности времени и пространства.
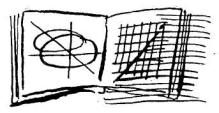 Глава шестая
Глава шестая
“Туманность
Андромеды” в оценках читателей. — Международная популярность и новаторское
значение романа. — Коммунистическое общество в произведениях Я. Вайсса и С.
Лета. — Тема социального будущего в советской научной фантастике наших дней.—
Романы Г. Мартынова “Каллистяне” и “Гость из бездны”. — “Пояс жизни” И.
Забелина. — “Возвращение”, А. и Б. Стругацких. — Коммунизм и предвидение.
После того как «Туманность Андромеды» была опубликована в журнале «Техника — молодежи», а затем вышла отдельными изданиями в «Молодой гвардии» и в серии «Роман-газета», в редакции на имя автора поступило огромное количество писем.
Нам удалось познакомиться лишь с небольшой частью этих взволнованных и непосредственных откликов на роман. Прежде чем новая книга Ефремова привлекла внимание критики и вызвала горячие споры на страницах печати, тысячи читателей высказали о ней свое суждение. Письма поступали не только со всех концов Советского Союза. Многие из них были с иностранными штемпелями
Писали студенты, инженеры, известные ученые, педагоги, рабочие, школьники...
«Я — человек техники, прочел ромам дважды с большим интересом и огромным удовольствием, — пишет известный авиаконструктор О. К. Антонов. — Нравится все: особенно отношение людей будущего к творческому труду, к обществу и друг к другу. Нравятся смелость, динамика и лиричность повествования. Книга окрыляет каждого человека, способного активно мечтать. Ради такого будущего стоит жить и работать».
«Жизнь, которую Вы нарисовали силой своего творческого воображения, должна быть, — заявляет доцент Ленинградского университета Н. Д. Андреев. — И я положу свой кирпич в ее строящееся здание — таково мое твердое намерение после того, как я прочел Ваш роман».
В письме студента Харьковского авиационного института В. Алфимова мы находим такие строки: «Сейчас с двумя своими друзьями я увлечен проблемой создания термоядерного ракетного двигателя. Конечно, ни втроем, ни вдесятером нам этого не сделать. Но ведь на овладение термоядерной энергией в мирных целях брошены лучшие силы науки, и мы хотим биться в их рядах. И таких, как мы, мечтателей, много у нас в институте. У нас такое впечатление, что «Туманность Андромеды» адресована нам, молодым романтикам техники».
В нашем распоряжении было несколько десятков подобных писем. Все они свидетельствуют о том, что роман Ефремова получил признание у людей самых разных национальностей, профессий, убеждений и вкусов, покорив в равной степени воображение и советских и зарубежных читателей.
Прав был ректор Ростовского университета Ю. А. Жданов, отметивший в своем письме в «Литературную газету», что «книга эта, пожалуй, одна из самых смелых и захватывающих фантазий во всей мировой литературе».
Социальный оптимизм Ефремова и вера его в высокое назначение человека произвели поистине ошеломляющее впечатление на читателей из капиталистических стран.
«Ощущение от вещи в целом такое, — писал англичанин Э. Вудлей, — что она находится на много более гуманном уровне, чем какая-либо из западных научно-фантастических книг, которые я читал до сих пор. Это зависит от Вашего иного взгляда на будущее... Трудность чтения вызвана тем, что люди будущего будут более высокоразвитыми, чем мы, ныне живущие... Я предпочитаю ваш стиль писания цинизму многих английских и американских научно-фантастических писателей».
С этими мыслями перекликается письмо молодой француженки Кадрели из департамента Жиронды:
«...Я была приятно удивлена разницей между этой книгой и подобного рода американскими и французскими романами, героями которых являются гангстеры, перенесенные в космос. Почти все такие романы наполнены ужасами. Это наводит на мысль, что наши «западные» фантасты хотят видеть в будущем только катастрофы. Наоборот, герои произведения Ефремова — оптимисты».
Приведем в заключение отзыв еще одного французского читателя — Даниеля Доре:
«Автор рисует вполне правдивую картину будущей жизни человечества несколько веков спустя. Эволюция будущего мира осуществится по образу коммунистической эволюции в СССР. Я прочел много научно-фантастических книг, но никогда так не думал о реальности будущего, как во время чтения «Туманности Андромеды».
В свете этих отзывов становится понятно, почему «Туманность Андромеды» так быстро завоевала международное признание. За короткое время роман был издан в Румынии, Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии (на чешском и словацком языках), Болгарии, Франции, Японии. Индии (в отрывках на английском языке). Кроме того, для Англии, США и латиноамериканских стран роман переведен Издательством литературы на иностранных языках.
В 1960 году на ежегодном базаре советской книги в Париже, организованном Арагоном, «Туманность Андромеды» по числу распроданных экземпляров заняла первое место.
Все растущая популярность книги и у нас и за рубежом в значительной степени объясняется тем, что Ефремову удалось построить свой роман на совершенно новых, непривычных конфликтах, идущих вразрез с литературной традицией — либо «нормальный» человек вступает в столкновения с «ненормальными» условиями, либо наоборот. А в «Туманности Андромеды», как уже говорилось выше, намечены качественно иные конфликты: нормальный человек, свободный от темных пятен прошлого, живет и действует в нормальных условиях, свободных от всех противоречий «предыстории человечества».
Другая причина большого успеха «Туманности Андромеды» обусловлена, как нам кажется, масштабностью фантазии, далеким заглядом в будущее. Это позволяет автору нарисовать картину целого в широком плане, крупными мазками, по возможности отвлекаясь от более или менее случайных деталей и преходящих моментов, неизбежно отпадающих в процессе исторического развития, в ходе борьбы за достижение наиболее совершенного и целесообразного общественного устройства. Когда мы смотрим на героев романа и оцениваем их мысли и дела с большого расстояния, это дает нам своеобразный критерий для оценки и проверки современной жизни с точки зрения ее движения к идеальному будущему.
И наконец, еще одна причина, объясняющая столь широкое признание романа Ефремова, связана с повышенным интересом к достижениям и перспективам науки и техники, безоговорочно доказавшей свое могущество и необходимость в современном обществе — и у нас, и за рубежом. «Именно в науке человек нашего времени, отрешившийся от религиозных представлений о мире, — пишет Ефремов в статье «Наука и научная фантастика», — видит единственную опору как для построения нового, справедливого общества, так и для «души», для понимания своего места и значения в жизни».
Ефремов с убеждающей силой сумел показать титанические свершения людей, поставивших науку на службу добру и справедливости и устранивших со своего пути все преграды для свободного развития творческого духа. В этих условиях наука достигла ослепительных высот, и в то же время все ее необыкновенные достижения, изображенные писателем, в сущности уже потенциально заложены в науке и технике нашего времени — в первых искусственных спутниках земли, в полетах первых космонавтов. В «Туманности Андромеды» мы видим словно уже реализованной мечту о приложении научных достижений к преобразованию природы, общества и самого человека. Это как раз и должно составлять сущность научной фантастики, ибо главный ее смысл — показать влияние науки на развитие общества и на развитие самого человека — на его сознание, психику, чувства. И потому научная фантастика не может выполнить свою задачу в отрыве от важнейших социальных вопросов современности.
В «Туманности Андромеды» научная фантастика впервые и в наиболее полном выражении обрела эти новые качества, отвечающие ее основной воспитательной задаче.
Литературные недостатки этого романа, написанного ученым, не должны и не могут заслонить главного, того, что читатели почувствовали раньше критиков, — принципиальной новизны «Туманности Андромеды» и ее этапного значения в истории советской и мировой научно-фантастической литературы.
В том же направлении ведутся творческие искания и другими писателями, стремящимися нарисовать жизнь людей в эпоху мирового коммунизма.
Почти одновременно с «Туманностью Андромеды» появились талантливые книги чешского писателя Яна Вайсса «В стране наших внуков» и известного польского фантаста Станислава Лема «Магелланово облако». Несмотря на то что каждая из этих трех книг написана в своем собственном художественном ключе, русского, чешского и польского писателей сближает общность идейных устремлений.
Книга Я. Вайсса представляет собою сборник психологических рассказов, подчиненных одной теме — борьбе человека новой формации с укоренившимися пережитками старого мира: эгоизмом, тщеславием, равнодушием, завистью, ревностью и т. п. В лучшем рассказе сборника «Звезда и женщина» молодой астронавт Петр перед самым полетом встретил и полюбил Ольгу. Расставание с Землей показалось ему неимоверно трудным, и он отказался от участия в межпланетной экспедиции. Но все близкие, невеста, братья и даже мать, у которой космос уже отнял мужа, безмолвно осуждают Петра. После долгих и мучительных раздумий астронавт понимает, что сделал ложный, недостойный шаг, и снова просит включить его в число членов экипажа планетолета «Стрела».
Ян Вайсс пытается раскрыть новые черты взаимоотношений людей завтрашнего дня и в других рассказах — «Капля яду», «Треснутая ваза», «Мастер долголетия», «От колыбели к симфонии», «Сон в воздушном корабле». Сюжетное повествование перемежается лирическими раздумьями — своеобразным писательским дневником, органически входящим в ткань повествования.
«Я хочу показать, — пишет Я. Вайсс, — счастье человека грядущего, построенное на прочных товарищеских отношениях между людьми бесклассового общества; их борьбу с последними пережитками собственнических инстинктов; их отношение к творческому труду, который становится страстью; их героическую борьбу с природой — эту первую и последнюю, единую и вечную, величайшую борьбу человека, овладевающего самим собой и вселенной». Станислав Лем в романе «Магелланово облако», так же как и Я. Вайсс, обращаясь к теме будущего, имеет в виду прежде всего его создателя — человека.
Действие романа переносит нас в XXXII век. Прекрасна Земля, щедро одаряющая своих хозяев — людей бесконечно разнообразными и целесообразно используемыми богатствами. Прекрасны города, в которых живут люди. Освоив солнечную систему, подчинив себе ресурсы сначала близких, а потом и далеких планет, вплоть до последней из них — Цербера и его спутников (гипотетическая планета, придуманная автором), человечество должно осуществить следующий шаг вперед — прыжок через океан пространства, отделяющий нас от ближайшей звезды. В десятках тысяч километров от Земли, на одном из ее искусственных спутников, сооружается титанический, достигающий почти километра в длину, межзвездный корабль «Гея». Он должен пронести отважных сквозь чудовищные пространства, к звезде Проксима Центавра, чтобы попытаться обнаружить там планеты с разумными существами и установить с ними связь. Но полет «Геи» и первая встреча с разумными обитателями Белой Планеты — всего лишь сюжетный ход. Лема интересует другое. Ему хочется раскрыть духовный облик людей далекого будущего, проникнуть в мир их чувств и мыслей и понять этот мир.
Глубокую мысль высказал один из героев романа, конструктор Ирьола: «Некогда, в древности, людей объединяли общие традиции, обычаи, родовые и национальные связи, труды прошлых поколений и культ самых выдающихся событий. А нас сильнее всего связывает наша деятельность по завоеванию будущего. Мы смотрим далеко за пределы личной жизни одиночки. В этом наша сила, мы не ждем пассивно будущего, но сами творим его: наши требования вырастают на основе наших мечтаний, отсюда изменяется и обновляется все — как в нас самих, так и вокруг нас».
Творить будущее на основе беспредельно расширяющихся мечтаний стало жизненной практикой людей XXXII века. И чем труднее замысел, тем энергичнее мобилизация духовных сил каждого члена общества во имя скорейшего и более полного осуществления замысла.
Посылая «Гею» к Проксиме Центавра, Лем соединил на «маленькой Земле» людей разного возраста, различных характеров и специальностей. Как при микробиологическом исследовании одной капли воды можно составить верное представление о жизни микросуществ всей массы океана, так и в данном случае, раскрывая характеры членов экипажа «Геи», Лем создает представление о грядущем коммунистическом обществе в целом.
Много внимания писатель уделяет разработке норм поведения людей будущего.
Когда тоска по оставленной Земле стала нестерпимой, некоторые из членов экипажа — люди с более слабой нервной организацией — готовы были выброситься из звездолета, чтобы мгновенно прекратить муки ностальгии.
В самый критический момент историк Тер Хаар напоминает им о гибели одного из антифашистов в древние времена Земли.
«Его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, а может быть, на дни или недели — все равно! Мы находимся на пути к звездам, потому что Мартин умер ради этого. Мы живем при коммунизме... Но где же коммунисты?»
И отчаявшиеся вновь обретают уверенность. Да, они коммунисты! Они — потомки героических борцов за будущее, ставшее для членов экипажа «Геи» величественным и прекрасным настоящим. Они должны быть достойны памяти Мартина, достойны его молчания и его подвига, ибо их полет к звездам — продолжение жизни и смерти Мартина...
В последние годы тема социального будущего начинает все более отчетливо звучать в советской научно-фантастической литературе. В этой связи следует прежде всего упомянуть романы Георгия Мартынова.
Если в первой книге дилогии — «Каллисто» — писатель дает только предварительное представление о нравах, моральных принципах и научных достижениях жителей одной из планет системы Сириуса, прибывших на Землю в качестве «посланцев доброй воли», то во второй книге — «Каллистяне» — он пытается увидеть наше будущее глазами представителей земного человечества, советских ученых Широкова и Синяева, отправившихся с «ответным визитом» на Каллисто.
Могучая техника каллистян не заслоняет сущности новых человеческих отношений. Напротив, она становится средством для более полного их раскрытия. Каллистяне поразительно похожи на людей Земли. Г. Мартынов делает это умышленно, ибо для него каллистяне — не просто жители какого-то бесконечно далекого и чужого мира, а наши потомки, какими ему хотелось бы их видеть.
Хотя писателю и не удались индивидуальные характеристики каллистян, все же он наметил некоторые черты нового человека, для которого прямодушие, мужество, благородство, необыкновенная деликатность — не прописные истины, а естественная норма поведения. Иначе каллистяне и не могут себя вести. Лучшие свойства души столь же органичны для них, как необходимость дышать пламенным воздухом своей планеты.
В отступление от литературного шаблона, Г. Мартынов не создает непроходимой пропасти между высокой цивилизацией чужого мира и Земли. Автор заражает своей верой в стремительное восхождение человечества на высоты социального и научного прогресса. Несмотря на то что техника землян отстает от каллистянской на несколько столетий, люди быстро расшифровывают сообщение о новейшем изобретении каллистян — мгновенной связи по бесконечным нитям взаимотяготения («тесси-лучи») — и, построив такую же установку на Земле, вступают в непосредственную связь с планетой, находящейся на расстоянии десяти световых лет. «Выяснилось, что быстрота ответа, так удивившая каллистян, получилась потому, что ученые Земли сразу, как только поняли принцип, увидели возможность упростить установку».
Широков и Синяев возвращаются на Землю с новой группой каллистян, а навстречу белому шару мчится первый земной звездолет, держащий курс на Каллисто...
Г. Мартынов пишет преимущественно для детей. Этим объясняются и специфические литературные приемы, облегчающие восприятие сложного материала.
В своем новом романе о будущем — «Гость из бездны» — писатель пытается уже без «скидки на возраст» поставить некоторые философские и психологические проблемы, повествуя не о выдуманном чужом мире, а о Земле эпохи высшего расцвета коммунистических отношений. В это прекрасное грядущее, отделенное от нас двумя тысячелетиями, попадает Дмитрий Волгин — человек XX века. Он воскрешен из небытия усилиями ученых, рискнувших на грандиозный опыт оживления мумифицированного трупа.
Несмотря на то что основное внимание автора сосредоточено на образе Волгина и его внутренней драме (непроходимая пропасть, отделяющая его сознание от могучего разума окружающих людей), Г. Мартынову удалось создать запоминающиеся индивидуализированные характеры наших далеких потомков. И хотя в этой книге можно встретить немало надуманных ситуаций, введенных лишь для обострения сюжета, и далеко не все научные прогнозы писателя достаточно мотивированы, роман «Гость из бездны» по сравнению с «Каллистянами» — произведение более зрелое, свидетельствующее об устойчивом интересе писателя к теме социального будущего.
Сюжетным приемом Г. Уэллса («Когда спящий проснется») пользуются и авторы романа «Внуки наших внуков» Ю. и С. Сафроновы, заставившие своего героя, профессора Храмова, пробудиться от летаргического сна в 2107 году. Но в изображении Ю. и С. Сафроновых внуки наших внуков по своему интеллекту, направленности мышления, морально-этическим нормам ничем не отличаются от наших современников, и в этом мы видим самый большой недостаток романа.
Более оригинален по замыслу роман «Пояс жизни» молодого литератора, географа И. Забелина, обосновавшего положения новой науки — астрогеографии и выступающего в качестве популяризатора своих же собственных научных идей. В этом смысле И. Забелин проявляет себя в советской научной фантастике как последователь И. А. Ефремова.
Русские ученые (действие происходит в 80-х годах нашего века) переносят на Венеру земную растительность, чтобы преобразовать биогеносферу соседней планеты и ускорить на ней развитие жизни. Но писателя занимает не только будущее астрогеографии. Социальная тема — строительство коммунизма в Советском Союзе и воспитание нового поколения ученых, покорителей космоса, — неразрывно связана с научной. Здесь поднято много жизненно важных и еще не решенных проблем: искоренение из сознания людей потребительского отношения к коммунизму, постепенная ликвидация государства, усиление роли творческого соревнования и т.д.
Последняя по времени книга на ту же тему — фантастическая повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Возвращение (Полдень. 22-й век)» — представляет собой цикл рассказов, связанных общими героями. Всем им приданы черты, которые, по мнению авторов, проявляются уже в полной мере в передовых людях нашего времени и будут обычной «средней нормой» для членов всепланетного коммунистического содружества. Достоинство повести — в стремлении раскрыть внутренний мир наших потомков и пробудить у читателей живую творческую мысль. Книга, правда, написана неровно и психологические портреты молодых людей 22-го века представляются нам нарочито упрощенными, но тем не менее она покоряет романтической страстностью и верой авторов в свою мечту.
Несмотря на неравноценность упомянутых произведений, все они, как и «Туманность Андромеды» Ефремова, ставшая примером больших творческих дерзаний, вызваны к жизни действительностью нашего общественного строя в его неуклонном движении к коммунизму.
Сейчас, в свете новой Программы партии, создание «комплексных» произведений о коммунистическом обществе представляется особенно важным. Поэтому творчество Ефремова и писателей, идущих по тому же пути, закономерно вызывает у читателей такой горячий интерес. Писатели-фантасты всегда должны помнить замечательные слова А. И. Герцена, как бы обращенные непосредственно к ним:
«Вера в будущее — наше благороднейшее право, наше неотъемлемое благо. Веруя в него, мы полны любви к настоящему».
Глава
первая УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ
И. Ефремов в родительском доме. — Гражданская война. — Переезд в Херсон. — Поход к Перекопу с авторотой 6-й армии. — Петроград. — Знакомство с П. П. Сушкиным. — Владивосток. — На борту «Третьего Интернационала».— Командир катера в Каспийском море. — Ленинградский университет. — Первые палеонтологические экспедиции. — Охотник за ископаемыми. — Что такое тафономия? — Новые пути в науке. — Начало литературной деятельности. — Встреча с А. Н. Толстым. — Опубликованные произведения и творческие замыслы Ефремова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Глава
второй ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НАУКА
Лестница знаний. — Взаимодействие и взаимопроникновение наук. — Движение к синтезу. — И. Ефремов — естествоиспытатель-диалектик. — Историзм мышления. — Палеонтология и древние мифы. — Единство научного и литературного метода. — Фантастика в науке и литературе. — Почему вымерли динозавры? — Споры о «Снежном человеке». — Романы В. А. Обручева. — Традиции К. Э. Циолковского. — Эволюция картины мира. — Философия современного естествознания. — Научная фантастика и творчество И. Ефремова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Глава
третья ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫСЛИ
«Дорога ветров». — Восприятие природы глазами ученого и художника. — Аналогии с живописью. — Своеобразие художественного видения. — Стиль — это человек. «Пять румбов». — Чудесное в природе и в жизни. — Герои рассказов. — Романтика познания. — Фантастические допуски.— Гипотезы, оказавшиеся реальностью. — Как делаются открытия. — Автобиографичность рассказов. — Морская тема. — История «Катти Сарк». — «Звездные корабли». — Рождение, открытия «на стыке» разных наук. — Гипотезы о пришельцах из космоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Глава
четвертая МОЯ АФРИКА
Африка а жизни и творчестве Ефремова. — Замысел «Великой Дуги». — «Путешествие Баурджеда». — Деспотический Египет Древнего царства. — Открытие большого мира. — Рассказ о путешествии. — Уахенеб и восстание рабов. — «На краю Ойкумены». — Символическое значение геммы. — Приключения Пандиона. — Воспитание его характера. — Тема родины. — Образы Кидого и Кави. — Тема великого братства. — Формирование Пандиона как художника. — Загадки древней истории и гипотезы Ефремова.— «Адское пламя». — «Афанеор, дочь Ахархеллена» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Глава
пятая ЭПОС МЕЧТЫ
«Туманность Андромеды» и традиции социально-утопической литературы. — Дистанция времени, отделяющая нас от героев романа. — Земля будущего в изображении И. Ефремова. — Великое Кольцо Миров. — Этический пафос романа. — Внутренние конфликты, порожденные новыми общественными отношениями. — Система воспитания. — Любовь и дружба.— Дети и родители. — Остров Матерей. — Роль искусства. — Эстетизация жизни. — Время как философская категория и как исторический процесс. — Взгляд из будущего в прошлое. — Энциклопедичность романа. — «Cor Serpentis (Сердце Змеи)» — своего рода эпилог «Туманности Андромеды» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Глава
шестая ДОРОГИ К ЗВЕЗДАМ
(Вместо заключения)
«Туманность
Андромеды» в оценке читателей. Между народная популярность и новаторское
значение романа. — Коммунистическое общество в произведениях Я. Вайсса
и С. Лема. — Тема социального будущего в советской научной фантастике наших
дней. — Романы Г. Мартынова «Каллистяне» и «Гость из бездны». «Пояс жизни» И.
Забелина. — «Возвращение» А. и Б. Стругацких. — Коммунизм и предвидение . . . .
. . . . . . . . . . 154
Брандис
Евгений Павлович
Дмитревский
Владимир Иванович
ЧЕРЕЗ ГОРЫ ВРЕМЕНИ
Редактор М. И. Дикман
Художник Б. Г. Крейцер
Худож. Редактор М. Е. Новиков
Техн. Редактор М. А. Ульянова
Корректор П. Е. Суздальский
Сдано в набор 27/Х 1962 г. Подписано в печать 11/III 1963 г. М 20866. Бумага 84х1081/32. Печ. л. 67/8 + 9 вкл. (12,2). Уч.-изд. л. 12,29. Тираж 10 000 экз. Зак. № 1758. Цена 71 коп.
Издательство «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28
Типография № 5 УЦБиПП
Ленсовнарком
Ленинград, Красная ул., 1/3
[1] Здесь и ниже выдержки из неопубликованных записей бесед с И. А. Ефремовым даются в форме прямой речи.
[2] П. П. Сушкин стал академиком в 1923 году.
[3] И. Ефремов. Дорога ветров. М., 1958, стр. 96.
[4] И. Ефремов. Что такое тафономия? — «Природа», 1954, № 3.
[5] См.: И. А. Ефремов. Владимир Прокофьевич Амалицкий. — «Палеонтологический журнал», 1960, № 4.
[6] Оценка научной деятельности И. А. Ефремова содержится в статье А. К. Рождественского «Некоторые итоги изучения в СССР древних земноводных, пресмыкающихся и птиц». — Сб. «Труды IV сессии Всесоюзного палеонтологического общества». М., 1961.
[7] Тафономия — производное от греческих слов: тафо — захороняю, номос — закон.
[8] Доклад опубликован в сборнике «Труды IV сессии Всесоюзного палеонтологического общества». М., 1961.
[9] Адаптация — приспособление организма к условиям существования.
[10] «Знание—сила», 1957, № 7, стр. 32.
[11] В первых изданиях — «Дены-Дерь», «Тайна горного озера».
[12] «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 150.
[13] По количеству включенных рассказов книга была озаглавлена «Пять румбов».
[14] Первоначальное название — «Телевизор капитана Ганешина».
[15] В первом издании — «Ак-Мюнгуз».
[16] Обе повести были закончены в 1945 г. По независящим от автора причинам «Путешествие Баурджеда» увидело свет с большим опозданием.
[17] Рассказ был написан в 1948 г.
[18] Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 235.
[19] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 596.
[20] И. Ефремов. Геология в 2004 году. Будущее исторической геологии. — «Знание — сила», 1954, № 4, стр. 23.
[21] И. Ефремов. Семь лун Земли. — «дружба народов», 1958, № 1, стр. 171.
[22] И. Ефремов. Дорога ветров. М., 1958, стр. 303—304.
[23] И. Ефремов. Охотники за динозаврами. — «Комсомольская правда», 27 августа 1954 г.
[24] «Дорога ветров», стр. 353—354.
[25] «Дорога ветров», стр. 27. Первоначально рассказ был озаглавлен «Алергорхой-хорхой». Неправильная транскрипция названия легендарного животного идет от Эндрюса. Позже заглавие было исправлено. «Олгой-хорхой» значит по-монгольски «толстый червяк».
[26] Д. Томпсон. Предвидимое будущее. М, 1958, стр. 158.
[27] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 33, стр. 284.
[28] И. Ефремов. Вопросы изучения динозавров. По материалам Монгольской экспедиции Академии наук СССР. — «Природа», 1953. № 6, стр. 26-27.
[29] См. «Техника — молодежи», 1959, № 4, стр. 34.
[30] Геннадий Гор. Писатель и наука. — «Литературная газета». 6 сентября 1960 г.
[31] Бэль — высокий цоколь горного хребта, образовавшийся из продуктов его разрушения и окаймляющий подножие хребта. Характерен для пустынных областей (прим. автора).
[32] «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 175.
[33] Б. Евгеньев. Рассказы о необыкновенном. — «Новый мир», 1946, № 1-2.
[34] «На пути к роману „Туманность Андромеды». — «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 145.
[35] И. Ефремов. Тень минувшего. Детгиз. 1945, стр. 78.
[36] Кстати, И. А. Ефремов писал о применении подводного телевидения еще в 1929 году в упомянутой выше статье об исследованиях геологической структуры океанского дна.
[37] «На пути к роману “Туманность Андромеды“». — «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 143.
[38] М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 27. М., 1953, стр. 108.
[39] Трог — долина, выглаженная ледником с очень крутыми склонами (прим. автора).
[40] См. о Гуркине заметку в газете «Молодой ленинец» (г. Комсомольск) от 18 февраля 1956 г.
[41] А. Казанцев. Пришельцы из Космоса? — «Смена», 1961, № 8—10.
[42] Афрос — пена (древнегреч. ) Отсюда — Африка.
[43] Имеется в виду известный русский путешественник, врач А. В. Елисеев (1858—1895), автор четырехтомной серии путевых очерков «По белу свету». Туареги, переделав фамилию путешественника на арабский лад, действительно называли его «Эль-Иссей-Эф». Воспользовавшись гостеприимством, которое было оказано ему как врачу, Елисеев свободно посещал становища кочевников, бесплатно лечил их и раздавал лекарства. В его книгах содержится ценный этнографический материал о туарегах, и, между прочим, подробный рассказ о вожде Ахархеллене и его дочери Афанеор, поразившей путешественника необыкновенной красотой, грациозностью и искусством в танцах. Таким образом, Ефремов в своем художественном вымысле опирается на фактическую основу.
[44] «Правда», 26 мая 1961 г.
[45] «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр.144.
[46] «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 149.
[47] «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 149.
[48] «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., Гослитиздат, 1957, стр. 566.
[49] Первый набросок «Страны Гонгури» был сделан В. Итиным еще в 1916 году и принят А. М. Горьким для его «Летописей», но в связи с закрытием журнала так и не был опубликован. Активный участник революции, писатель-большевик В. Итин после разгрома Колчака остался в Сибири на партийной и советской работе, и здесь, в городе Канске, восстановил и издал свою повесть. (См.: Д. Каргополов. Страна Гонгури. — Газ. «Молодой ленинец», Томск, 9 сентября 1960 г.)
[50] Парсек — единица измерения астрономических расстояний; равен 3,26 световых лет, или около 32х1012 километров.
[51] Подробнее см. об этом в статье В. Львова «Великое Кольцо». — «Нева», 1960, № 12.
[52] Энтропия — обесценение, рассеивание энергии при переходе всех ее видов в тепловую.
[53] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 2, стр. 197.
[54] К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Гослитиздат, 1956, стр. 588.
[55] Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М, Госполитиздат, 1951, стр. 84—85.
[56] Сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1. М., «Искусство», 1957, стр. 135—136.
[57] «Вопросы литературы», 1960, № 1, стр. 51.
[58] В. И. Ленин. Собрание сочинений, изд. 4, т. 37, стр. 311.